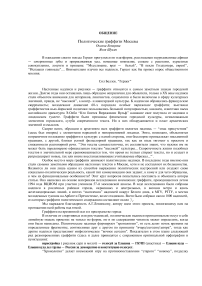Политические граффити Москвы
Автор: Бочарова Оксана Андреевна, Щукин Яков Михайлович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Общение
Статья в выпуске: 1, 1999 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911697
IDR: 14911697
Текст статьи Политические граффити Москвы
В ожидании своего поезда Герцог прогулялся по платформе, разглядывая изуродованные афиши — зачерненные зубы и пририсованные усы, потешные гениталии, схожие с ракетами, курьезные совокупления, лозунги и призывы: “Мусульмане, враг — белый”, “В пекло Голдуотера, евреи!”, “Испашки говноеды”....Внимательно изучив все надписи, Герцог как бы провел опрос общественного мнения.
Сол Беллоу. “Герцог”
Настенные надписи и рисунки — граффити относятся к самым заметным знакам городской жизни. Долгие годы они оставались лишь образцом неприличия для обывателя, только в ХХ веке надписи стали объектом внимания для историков, лингвистов, социологов и были включены в сферу культурных значений, правда, не “высокой”, а контр- и авангардной культуры. К надписям обращались французские сюрреалисты; молодежное движение 60-х породило особые парижские граффити; выставки граффитистов нью-йоркской подземки пользовались большой популярностью; наконец, известная пьеса английского драматурга Э.Олби “Кто боится Вирджинии Вульф” название свое получила от надписи в лондонском туалете. Граффити были признаны феноменом городской культуры, немаловажным элементом городского, сугубо современного текста. Но в них обнаруживается и пласт архаических значений и смыслов.
Скорее всего, образцом и архетипом всех граффити является надпись — “знак присутствия” (здесь был имярек) с элементами народной и ненормативной лексики. Этим, возможно, объясняется пограничное положение граффити в культуре: с одной стороны, они бесспорно принадлежат письменной традиции, с другой, близки устной фольклорной традиции, так как их язык тяготеет к простоте и сниженности разговорной речи. “Эти тексты самодостаточны, их составители знают, что нужное им не может быть передоверено официальным текстам “высокой” культуры... Скоротечность жизни подобных текстов в значительной мере уравновешивается тем, что время не только стирает тексты, но и создает и репродуцирует новые, так или иначе восстанавливающие учитываемые образцы...” 1.
Особое место в мире граффити занимают политические надписи. В последние годы именно они стали самыми заметными образцами настенных текстов в Москве, хотя и не составляют их большинства. Являются ли они лишь одним из способов выражения политических настроений или создают свою социально-политическую реальность, какой тип коммуникации они задают, к кому и для чего обращены, в чем их функциональные особенности? Этот круг вопросов попытались поставить и объяснить авторы статьи. Она написана на основе материалов исследования московских граффити, проводившегося летом 1994 года ВЦИОМ при участии учеников 57-й московской школы. В ходе исследования были собраны надписи в различных районах города, окраинных и центральных, в вагонах метро и вдоль железнодорожных линий, в местах “скопления” надписей вокруг Белого дома, в МГУ, РГГУ, в местах молодежных тусовок на Арбате и Пречистенке, возле стадионов. Всего было собрано около 1000 надписей, из которых граффити политического содержания составляют около 1/6.
Мы выражаем благодарность А.Г.Левинсону, автору идеи этого проекта, помогавшему нам на протяжении всей работы над темой.
Граффити на временной оси и в пространстве города
В отличие от спортивных или рок-надписей, политические надписи принципиально несут в себе линейную модель времени: не только по форме, но и по содержанию читатель может определить, когда они были написаны. Политические надписи формируют “хронологию”, то есть делят поток времени на определенные фрагменты, соотносимые друг с другом по принципу “вчера/сегодня/завтра”, тогда как другие надписи представляют мифологическое “вечное сегодня”. Показателен в этом плане следующий ряд разновременных граффити (здесь и далее приводятся с сохранением оригинальной орфографии и пунктуации):
перестройка ( рисунок серп и молот) — голосуй за Ельцина — ГКЧП (свастика) — Ельцин иуда — Ельцин куда дел трупы — Россия за демократию и конституцию голосует.
“Хронология” делает возможной игру на противопоставлении “старого” “новому”, подделку одного под другое (Смерть государству и капиталу), но также утверждает идею преемственности, обращения к традициям политической риторики (Долой!). Подобная хронологичность резко выделяет именно политические надписи и создает ощущение того, что они “не настоящие”, поскольку берут на себя одну из функций политических институтов, а именно контроль над историей. Политические надписи приобретают характерные черты других форм политического действия (например, создание транспаранта или листовки), теряя из-за этого свойства надписей, как таковых.
Граффити вообще и в особенности политические надписи определенным образом маркируют городское пространство. Основная ось, структурирующая пространство Москвы, “центр — периферия”, в системе политических надписей становится еще и временной осью. Политические события последних пяти — шести лет, изменения в массовом политическом сознании получают очевидное воплощение в пространственном делении. На окраинах города сохранились еще надписи демократического содержания, относящиеся к концу 80-х — началу 90-х, периода массовой политической мобилизации, поддержки демократических реформ и доверия лидерам (типа Ельцин ты прав ). В центре же Москвы, где количество политических надписей возрастает, их содержание радикально меняется: здесь абсолютно преобладают антиправительственные, антиельцинские высказывания ( Ельцин — кровопийца ), националистические(Армян в Ереван) и прокоммунистические ( Слава Октябрю ) надписи, то есть представлен весь спектр оппозиционных нынешнему курсу настроений. Иначе говоря, на городских стенах и заборах отразился процесс трансформации политического сознания на начальном этапе институционализации политики — переход от массовой вовлеченности в политику к массовому разочарованию и равнодушию к ней при одновременном образовании оппозиционного движения коммунистически-националистического идеологического спектра и групп со специализированными политическими интересами.
Пространственный контекст надписи взаимосвязан с ее семантикой и функциональным назначением. Прежде всего, следует отметить, что политические надписи тяготеют к общественно значимым пространствам. Вполне понятны намерения авторов граффити быть замеченными и услышанными, и поэтому они выражают свои политические взгляды в самых оживленных и людных местах. Здесь можно увидеть указание на важнейшие функциональные аспекты граффити. Но дело не только в этом. Места скопления политических надписей можно охарактеризовать как сакральные центры, обладающие (или обладавшие в недавнем прошлом) первостепенным значением в официальной символической системе общества: Театральная площадь, где расположены Большой и Малый театры — официозные символы советской культуры, МГУ — символическое воплощение высокого качества советской системы образования, Белый Дом — постсоветский символ свободы, новой справедливой власти, а затем насилия и кровопролития. Эти сакральные центры и становятся контекстами политических граффити. Поскольку семантика последних, как правило, носит инвективный и понижающий характер, надпись не только еще раз подтверждает значимость данного пространства, но и выполняет одну из важнейших функций граффити — профанацию сакрального центра с помощью “низких” значений. В этом отношении политические надписи последних лет восходят к своим предтечам-архетипам в Древнем Риме и Киевской Руси, где пространственными контекстами граффити бытового или неприличного содержания служили стены храмов, императорских арок и других общественно значимых зданий.
Определенный, отличный от других тип составляют политические надписи в туннелях метро и вдоль железнодорожных полотен. Их семантика и структура фразы относятся к лозунговому типу, не содержат характерных для обычных граффити инвектив и ненормативной лексики ( Спасай Россию от утопии капитализма ). Выполнены они обычно весьма качественно, с помощью трафаретов. Кроме того, эти надписи-лозунги рассчитаны лишь на то, что их заметят и прочтут: они физически недостижимы для читателей и недоступны для ответа, то есть недиалогичны в отличие от других граффити, самодостаточны. Их вообще вряд ли можно отнести к феномену граффити как таковых: граффити приписывается спонтанность и отсутствие рационально осознанной цели; между тем, авторы политических надписей вдоль транспортных линий не скрывают (а читатели угадывают) вполне определенные агитационные цели. В результате есть высказывание, по форме относящееся к граффити, а по содержанию и функциям оно становится в разряд лозунгов, листовок, агитационных плакатов или рекламных щитов.
Семиотичность надписи выступает на первый план в таких пространственных контекстах, как Белый Дом, площадь Революции, то есть на местах встреч и акций оппозиции. Здесь политические надписи, подобно молодежным граффити, выполняют функцию “закрепления места”, его обозначения как “своего”, принадлежащего именно данной группе. В этих местах граффити также чаще всего являются односторонними сообщениями и не предполагают диалога; во всяком случае, сторонники демократов и правительства не отвечают на эти надписи, видимо, принимая их знаковую роль. Напротив, политические граффити в университетах и во дворах открыты для читателя и провоцируют на диалог с авторами надписей. Для учебных заведений характерна профанация серьезных политических высказываний, их превращение в несерьезные, игровое отношение к политическим символам и идеологемам; политическая надпись здесь нередко является не самоцелью, а средством построения игровой, стебной картины мира.
Помимо макропространственного контекста, для понимания сущности феномена граффити важен и микропространственный фон надписей. Тяготение к “вечному” материалу — камню создает оппозиционное отношение между “вечностью” фона надписи и ее необычайно кратким “жизненным сроком”. Эта оппозиционность еще более усиливается в случае политических граффити, запечатлевающих на вечном материале политику — самую изменчивую жизненную сферу. Это подводит нас к проблеме адресатов граффити — “вечность” фона и сакральность места позволяют предположить, что, помимо обращения к непосредственным и актуальным адресатам, в надписях присутствует архетипическое, неосознаваемое автором обращение к “сверхадресату”, стремление с помощью высказывания приблизиться к нему.
Семантические особенности политических надписей
Мир политики, предстающий перед читателем надписей, достаточно своеобразен и отличается от того мира, который существует, допустим, на страницах газет. Начальное противопоставление “деятель — действие”, являющееся основой практически всех языков 2, не облагораживается никакими более сложными языковыми конструкциями, которые могли бы внести меньшую категоричность и, следовательно, задать иную модель политического поведения. Сам набор деятелей и действий тоже достаточно показателен. Что касается первых, то это скорее персоны (Ельцин, Гайдар, Руцкой и т.д.), чем институциональные образования. Присутствуют классы людей — банда Лужкова, Эльциноиды, коммунисты, демократы или такие образования, как Россия, СССР. Но даже коллективные деятели мыслятся просто как набор подобных, а не что-то более сложно устроенное с набором различных ролей и функций. Действия могут быть самыми разнообразными, но наиболее частым опять-таки является простейшее — номинация (Х есть Y). На его долю приходится около одной трети всех надписей. Другие действия связаны либо с агрессией: бить, судить, убивать, идти (перемещаться/перемещать), свергать, либо наоборот с жертвенностью: умирать, защищать. Подобный политический комплекс жертвы предполагает ответную агрессию в будущем.
Отдельно стоят надписи-символы, призванные представлять ту или иную идеологию: СССР, КПСС, свастика. Из-за слишком частого употребления некоторые из них потеряли какие-либо содержательные характеристики, то есть связь с идеологией, породившей их, и превратились просто в оскорбления (свастика).
Центральное место в семантике политических граффити занимает власть и властные отношения. Вообще в картине мира, которую составляют надписи, политика сведена к власти, и в этом смысле воспроизводится скорее старая, советская система отношений, где единственно значимым партнером является власть. Граффити как механизм, упрощающий и схематизирующий реальность, и саму власть персонализирует, сводит к фигуре Ельцина. В надписях отражается идущая в массовом сознании трансформация патерналистского отношения к власти, присущего Ноmo soveticus. В последнее десятилетие представления о власти как основном и практически единственном источнике благ и ценностей разрушались и уступали место фрустрации и разочарованию в возможностях и способностях властных фигур. Однако нового типа продуктивных отношений с властными институтами еще не сформировалось, так что по сей день в массовых настроениях господствует недовольство нынешними властями на том основании, что они не выполняют основную функцию государства — “кормить” и “давать” своим подданным. Власти придаются черты заботливого родителя, а гражданам отводится удел “вечного ребенка”..
Все эти процессы и перемены отразились и в надписях. Как видно из предикатов, употребляемых по отношению к Ельцину как квинтэссенции власти, его личность и действия не отвечают представлениям о нормальной, “настоящей” власти (предатель, убийца, палач, вор). Итак, власть не выполняет приписываемых ей функций, не оправдывает ожиданий “народа”. В ответ на это и “народ”, от имени которого стремится говорить автор надписей, ломает нормативные отношения с властью. Разрушается иерархия, столь незыблемая в отношениях господства, и с помощью граффити происходит прямая, “неуставная” апелляция к власти. Высокое значение власти и ее фигур профанируется, устанавливаются фамильярные и оскорбительные для власти отношения, где инстанцию, прежде авторитетную, можно и должно унижать и обзывать. Другими словами, одна из важнейших смысловых характеристик политических граффити сводится к инверсии реальных отношений господства. Раз власть не может или не желает выполнять роль кормильца, то народ в надписях строит перевернутую систему отношений, где берет на себя уже другую властную функцию — репрессивную и применяет ее к “неправильной” нынешней власти. Правда, невозможно представить себе граффити, возносящие похвалы власти, какой бы на самом деле эффективной эта власть не была. В надписях реальная власть соотносится с ее недостижимым идеалом, пра-образом, с архаическими представлениями о власти отцовской, “давящей сверху”, всепроникающей. По сравнению с ней власть, существующая в современном обществе, всегда оказывается в проигрыше. Здесь мы сталкиваемся с долокковской идеей власти, еще не подвергнутой рационализации.
Упрощенность и особость мира граффити подтверждаются еще и тем, что его “творцы” не воспроизводят существующую социальную реальность во всей ее полноте. Например, в надписях практически отсутствуют столь важные для современного постсоветского сознания образы “бизнеса”, “кавказцев” и “Запада”. Объясняется это тем, что в мире политических надписей значимы лишь отношения господства, только с властными фигурами и институтами ведется внутренняя коммуникация. Отношения с властью просты и носят патерналистско-иерархический характер, тогда как отношения с такими социальными партнерами, как “бизнес” и “кавказцы”, требуют подключения других культурных ресурсов и более сложны, а образ “Запада” получил в последние годы новые, усложняющие его коннотации. “Бизнес”, “кавказцы”, “Запад” принадлежат к модернизационному кругу значений и отношений, который практически не затрагивается в граффити. Кроме того, граффити стремятся прибегать к языку символов и слов-знаков, а процесс мифологизации и символизации этих образов еще только идет.
Реальность, создаваемая политическими граффити, несправедлива и хаотична. Основные темы, звучащие в надписях, — убийство, предательство, воровство, развал державы, правосудие и возмездие. Действительность представляется как абсолютное царство зла и непорядка. Однако царящие сегодня ужас и преступность будут завтра преодолены. Значительная часть политических надписей призывает к действиям, с помощью которых осуществится возмездие и восстановится справедливость (см. Приложение, п. 3.2). Причем возмездие понимается в основном как физическое подавление или устранение, суд упоминается только однажды. При анализе этого семантического среза политических граффити напрашивается аналогия с библейской тематикой справедливой кары и Страшного Суда. Представляется, что авторам граффити известны “правильное” устройство мира и средства восстановления порядка. Тем не менее они, претендуя на объективность, стремятся говорить не с точки зрения Творца, как можно было бы предположить, но “от имени народа”, идентифицируясь с ним. Именно “народный” взгляд на мир признается единственно правильным, нормальным, его и стремится выразить автор. Здесь имеет место синтез архаичных, имеющих религиозную окраску представлений с более поздними, советскими представлениями о справедливости, в которых Бог — творец и материального мира, и моральных ценностей замещен “народом” как единственно объективным и легитимным источником норм и смыслов.
Проблематика адресата/адресанта
Ответить на вопросы, кто писал надписи и кто их читает, представляется достаточно затруднительным. И дело здесь не только в том, что в ходе исследования мы не наблюдали ни процесс написания надписи, ни процесс чтения их. Просто в случае с надписями возникают специфические трудности с определением адресата/адресанта, отсутствующие при работе с другими видами коммуникации в современном мире, где право авторства ревностно соблюдается и далеко не всякий воспринимается как получатель той или иной информации. Таким образом, неопределенность адресата/адресанта следует считать отличительной характеристикой мира надписей вообще и в этом качестве сделать ее предметом особого анализа.
Прежде всего, необходимо отметить, что понятие автора выкристаллизовалось на относительно поздних стадиях развития культуры. Его возникновению предшествовала ситуация фольклорного творчества: все пишут — все читают. Это позволяет говорить об архаической природе надписей. Если учесть, что первыми известными формами письма были имена и знаки собственности на предметах 3, то современные надписи можно объявить их прямыми потомками. Однако, как нам представляется, феномен надписей тесно связан с таким модернизирующим (в смысле своей социальной функции) институтом, как город. Не случайно первые упоминания о граффити на территории России относятся именно к периоду возникновения городов. И как нам кажется, дело здесь не только в том, что в деревнях у надписей меньше шансов сохраниться (так как дерево менее долговечный материал, чем камень), а в том, что феномен надписей связан с такой ключевой характеристикой современного города, как анонимность. Надпись не должна иметь автора и должна обращаться ко всем, даже к тем, кто ее не понимает в силу языкового/культурного барьера. Именно различные аспекты городской анонимности позволяют скрыть себя и обратиться ко всем. Однако некоторое взаимодействие между автором и читателем происходит, следовательно, они узнают что-то друг о друге из самой надписи.
В политических надписях и автор, и читатель прежде всего являются представителями социальных групп в отличие от авторов и читателей граффити любовного и сексуального содержания, выступающих в качестве индивидов. Политические надписи от первого лица ( Ненавижу Сталина ) — исключение. Автор говорит от лица группы и предоставляет читателю возможность стать частью этого “мы”. Таким образом, эта группа, неважно реально или иллюзорно, усиливает свои позиции в обществе и начинает претендовать на универсальность своей точки зрения, на то, чтобы, как говорилось выше, представлять весь “народ”.
Политические надписи претендуют на то, чтобы описывать “мир как он есть”. В них провокационный заряд сильнее, чем в каких-либо других граффити, поэтому они оказываются лидерами по количеству вызываемых ими ответов, стираний надписей одной стороны другою и “взаимоуничтожений”. Наличие в политических надписях множества адресатов — “сверхадресат”, непосредственные герои надписи, свои/чужие, посторонние — предполагает и более широкий, чем в коммуникативной ситуации с другими надписями, набор ответных действий. Характерно, что через мир надписей поддерживается такая отличительная черта современного демократического устройства, как “биполярность” (правящая партия — оппозиция ). Если даже идеологий, из которых надписи черпают свое содержание, больше чем две (в Москве можно выделить демократическую, коммунистическую и патриотическую идеологии) в надписях одновременно могут быть представлены только две.
Объяснение феномена надписей
Классическое социологическое объяснение того или иного феномена строится с помощью таких понятий, как “ценность”, “ориентация на определенную ценность”, “норма”, “ожидание” и т.д. Когда же начинаешь работать с надписями, то сразу приходит на ум существовавшая в самый начальный период развития социологии “теория подражания” 4. Сейчас она кажется достаточно дикой, так как предлагаемые ею объяснения сводятся к простой схеме: один раз сделали — увидели — сделали то же самое. В случае с надписями это вроде бы естественный способ описания того, как из ничего возникает нечто. Все остальное представляется излишним и чем-то таким, о чем невозможно составить мнение на основе опыта. Действительно, как установить множество причин, заставляющих человека писать на стене? Если рассмотреть такие действия, как голосование, замужество или покупка телевизора, то здесь ситуация явно иная : сказать, что “Х купил телевизор потому, что увидел, как это сделал Y”, — это явно сказать слишком мало, дать только некоторое начальное объяснение ( и неважно, в какой форме оно дано, социологического трактата или разговора домохозяек). Такое социальное действие, как создание надписи является как бы белым пятном в картине мира современного человека. Сами социологи фиксируют подобную неопределенность 5. Относительно него не принято задавать вопросы “как? почему? зачем? когда?”, то есть отсутствует рефлексия на уровне индивида. На уровне культуры аналогичная ситуация — опыт написания граффити не изложен в романе, стихе или в любом другом виде художественного творчества. Таким образом, исследователь сталкивается с дефицитом объяснительных средств, которые еще не наработаны стихийным психологизированием и социологизированием.Тем не менее, мы постараемся выделить несколько функций надписей.
Все многообразие человеческих эмоций, мотиваций, установок и т.д. надписи позволяют воплотить в достаточно стройную коммуникативную систему. Эта система позволяет выразить в единообразной форме различные в содержательном плане положения, предусматривает возможности для двусторонней коммуникации и поддержания длительного взаимодействия. При этом надписи можно рассматривать не только как референциальные, но и как конденсационные символы 6. Можно сказать, что страх, а точнее борьба с ним, является причиной появления надписей: они являются механизмом снятия коллективного напряжения. Когда группа чувствует какую-либо угрозу, пусть даже фантомную, она репрезентирует себя и/или объект этой угрозы, демонстрируя, таким образом, простейший способ терапии (аналогом в области классического психоанализа является вспоминание сюжета, подвергшегося вытеснению).
Однако содержание “идеальной” заборной надписи шире: оно не просто “девиантное”, но и претендует на сокрушение самих основ нормы.
Выражение политических настроений через надписи — свидетельство стремления к упрощению политического процесса, поскольку его сложное определение через надписи дать невозможно. Вероятно, именно из-за этого надписи и становятся языком оппозиции независимо от того, какова политическая ориентация самой этой оппозиции. Можно выделить особый пласт ментальности, к которому надписи обращаются; это тот же пласт, к которому обращаются плакаты на митингах: разделяемые всеми (под “всеми” здесь понимаются потенциальные или реальные сторонники) представления, вокруг которых необходимо “сплотить”. Выполняется двойная функция: “вовне” надписи предстают как элементы агитации, следовательно, должны привлекать новых сторонников, но здесь с таким же успехом могут действовать газеты и листовки; “для своих” же они выступают как инструмент постоянной поддержки уже достигнутой солидарности. Это как бы перманентный митинг, в ходе которого люди оказывают поддержку друг другу простым фактом своего присутствия. Надписи как раз и являются знаками присутствия сторонников. За основной массой надписей закреплена функция — демонстрировать солидарность, идущую “снизу” (отличную от солидарности, насаждаемой “сверху”). Не раз указывалось на склонность современных политических партий превращаться в бюрократический аппарат 7. Однако для того, чтобы доказать наличие “социальной базы”, партиям все же нужны признаки некоторой спонтанности политического действия. Поэтому политические надписи несут в себе некоторые черты надписей простых ( что недопустимо, например, с листовками): ошибки, нарочитая оскорбительность, отсутствие унификации — все атрибуты “народности”. В результате получается коммуникация на политические темы на бытовом уровне.
Как и всякая система коммуникации, надписи берут на себя прежде всего функцию цементирования группы 8. В современном обществе это один из способов проведения границ “мы — они”. Причем, если с точки зрения “мира политики” эти надписи разъединяют (поскольку удостоверяют идеологические различия), то с точки зрения “мира надписей” они объединяют участников коммуникации независимо от идеологической окраски и противопоставляют их зрителям. В результате, оппозиция “мы — они” оказывается достаточно многоплановой. Напомним известное требование, предъявляемое к политической системе: политические различия не должны точно совпадать с классовыми, этническими и т.д., дабы сфера политики могла сохранять некоторую стабильность и автономию. Политические надписи, репрезентируя культуру, общую для всех жителей города, как раз и позволяют наладить процесс коммуникации между различными политическими группами в составе городского населения.
Сила политических надписей в том, что они вводят в круг общеизвестных, знакомых всем идей, действий, фигур. В отличие от них семантика спортивных и тем более музыкальных надписей понятна и известна далеко не всем, что и позволяет относить их к явлениям субкультурного плана. Любовные надписи и граффити типа “здесь был...” несут информацию индивидуального порядка, затрагивающую и включающую в коммуникацию лишь непосредственных героев надписи и их ближайший круг общения. Политические же граффити сообщают информацию, так или иначе значимую для всех, герои и идеи, населяющие мир политических надписей, всем известны и небезразличны, следовательно, этот класс граффити можно с уверенностью отнести к явлениям общей, всеми разделяемой городской культуры.
Приложение
Классификация надписей
Собранные политические граффити подразделены нами на 3 группы. Третья группа разбита еще на 5 подгрупп. Ниже предлагается их самое краткое описание и приводятся образцы надписей каждой группы/подгруппы.
Группа 1. Х (есть) Y
По-видимому, базовая конструкция, на основе которой развились все остальные. При этом на месте Х и Y могут быть как отдельные личности, так и целые классы, образованные тем или иным способом, хотя надписи, говорящие о сложных социальных образованиях инстиституционального уровня встречаются редко:
Ельцин сволочь Эльциноиды убийцы
Жириновский подлый жид Гончар генеталь
Клинтон урод Демократия — разгул спекуляции
Демократия — преступность повсюду
Группа 2. Названия — символы
Названия-символы просто свидетельствуют о наличии того или иного элемента в современной картине мира: звезда Давида, красная звезда, свастика. Этим элементом пользуются те или иные политические силы, и в зависимости от частоты его использования выясняется, кому он принадлежит:
СССР СССР ФНС КПСС перестройка (серп и молот)
ГКЧП (свастика) — данная надпись как бы переходная между 1 и 2 (можно расшифровать как ГКЧП — фашисты). Очевидно, что для того, чтобы стать названием-символом, тот или иной знак должен использоваться очень часто представителями различных политических групп и постепенно утратить семантические особенности, превратившись в “пустой”.
Группа 3. Х (действие) Y
Подобная схема дает возможность для использования самых различных “действий”, о которых уже говорилось в тексте статьи, а также для построения самых сложных конструкций в мире надписей. Здесь в принципе возможны самые разнообразные варианты, поэтому мы выделим лишь наиболее очевидные.
-
3.1. Надписи, в которых так или иначе присутствует первое лицо:
-
3.2. Надписи-призывы, где действие используется в модальности долженствования, а Х (источник действия) не указывается. Это классический прием политической риторики; с его помощью демонстрируют “всеобщность” и “очевидность” того или иного положения:
Коммунисты простите нас дураков Я ненавижу Сталина
Ельцин будешь иметь дело со мной
Первое лицо в политических надписях — явление крайне редкое (нами были обнаружены только вышеприведенные), чего не скажешь о надписях вообще. Оно создает ощущение некоторой исповедальности, и подобные надписи с трудом воспринимаются в качестве политических.
Армян в Ереван Долой кровавую хунту демков
Yаnkee go home (Не)Бей (пре)красных тварей (диалог)
Банду Лужкова — под суд Красных скотов — к стене
Бойкот выборам — здесь в роли Y выступает, говоря языком социальных наук, не группа, а институт, что характеризует надпись как приближающуюся к “листовочно-агитационной”
-
3.3. Листовочно-агитационные надписи различаются как способом изготовления, так и семантикой и синтаксисом:
-
3.4. Надписи — риторические вопросы:
-
3.5. Рифмованные надписи — аналог “высокой поэзии” в мире надписей, в том числе и политических:
Голосуй за Гончара, будет лучше чем вчера
Россия за демократию и конституцию голосует
В этой группе есть также надписи, которые так давно перекочевали с плакатов в фольклор, а потом на стены, что их “агитационное” происхождение уже не ощущается.
Этому способствует их лаконичность и простота:
Слава Октябрю Нет безработице
Где $ КПСС Лучшее иностранцам, а нам, засранцам
Ельцин пьяная свинья Эй, обыватель, довольно спать,
Вон Иуда из Кремля Отнимут и кровать
Скажи-ка дядя, ведь не даром,
Москва, спаленная пожаром,
Евреям отдана
Список литературы Политические граффити Москвы
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследование в области мифопоэтического. М., 1995. С. 386
- Сепир Э. Язык//Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 116.
- Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю. М., 1937. С. 287.
- О теории подражания см.: История буржуазной социологии первой половины XX века. М., 1967.
- «Уличный художник -декорация, протест или самоутверждение?»//Международный журнал социальных наук, 1994. № 3(6) (на русском языке).
- Сепир Э. Символизм//Избранные труды по языкознанию и культурологии. С. 205.
- Michels R. Political parties: A sociological study of the oligarchial tendencies of modern democracy. New York, 1962.
- Bushnell, John. Moscow graffiti: Language and subculture. Winchester (Mass.), 1990