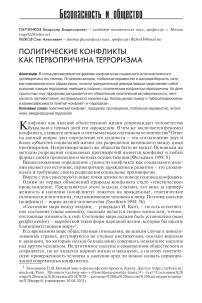Политические конфликты как первопричина терроризма
Автор: Ларченков Владимир Владимирович, Рыжов Олег Алексеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Безопасность и общество
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются феномен конфликта как социального антагонистического противоречия и его генезис. По мнению авторов, глобальное неравенство и массовая бедность, силовое навязывание иного образа жизни, попытки принудительной демократизации представляют собой исходные позиции терроризма, имеющего сходные с политическим конфликтом первопричины. На фоне сущностных черт терроризма раскрывается его обязательная политическая мотивированность, неоткрытость противостояния, экстремальность насилия и др. Авторы делают вывод о глубокой взаимосвязи и взаимозависимости понятий «конфликт» и «терроризм».
Политический конфликт, терроризм, противоречия, глобальное неравенство, антагонизм, международный терроризм
Короткий адрес: https://sciup.org/170177357
IDR: 170177357 | DOI: 10.31171/vlast.v29i4.8379
Текст научной статьи Политические конфликты как первопричина терроризма
К онфликт как явление общественной жизни сопровождает человечество буквально с первых дней его зарождения. В чем же заключается феномен конфликта, ставшего вечным и неотъемлемым спутником человечества? Ответ на данный вопрос дает определение его сущности – это столкновение двух и более субъектов социальной жизни для разрешения возникшего между ними противоречия. Непротиворечивого же общества быть не может. Основным же методом разрешения социальных противоречий является конфликт в любых формах своего проявления и методах осуществления [Фельдман 1998: 8].
Вышеизложенное определение сущности конфликта как социального явления уясняет его источник, первопричину зарождения и развития – это сложившееся и требующее своего разрешения социальное противоречие.
Вместе с тем существуют и иные точки зрения по поводу генезиса конфликта.
Одним из первых объяснений природы конфликта стало «генетическое» происхождение. Представители этого подхода считают, что вина за приверженность к насилию (конфликту) ложится на врожденные, генетические склонности и инстинкты, подталкивающие человека к нему. Поэтому насилие (конфликт) – норма жизни человечества [Гусейнов 1994: 36].
«Состояние мира между людьми, – утверждал И. Кант, – не есть естественное состояние ( status naturalis ), таковым является скорее война или, точнее, постоянная готовность к ней. Состояние мира должно быть установлено ( muss gestiftet werden ) – выработкой таких форм народной жизни, которые бы вполне благоприятствовали миру»1.
В современном мире общественные отношения, во всяком случае в цивилизованных странах, регулируются не столько инстинктами, сколько моралью и законами, по которым нельзя безнаказанно совершать незаконное насилие над другим человеком. Нелегитимное насилие в современном обществе хотя и сохраняется, но не является нормой жизни и наказуемо, а поэтому генетическую приверженность человека к насилию вряд ли можно назвать первопри чиной совр еменных конфликтов.
Несколько иной точки зрения придерживаются те, кто считает, что конфликт, как и насилие в целом, является результатом не врожденных инстинктов человека, а сложившихся экономических и социальных условий жизни общества. В соответствии с ними появляются экономическое и социальное неравенства, порождающие дифференциацию общества на социальные группы, общественные классы, разнящиеся по своему материальному положению и социальному статусу. Это, естественно, вызывает противоречия и борьбу между ними. Именно этот посыл подтолкнул конфликтологов к рассмотрению насилия как неотъемлемого элемента конфликта и общественной формы жизни, выражением протеста того или иного субъекта против сложившегося социального строя.
В международном плане причиной насилия и конфликтов также является социальный фактор – глобальное неравенство и массовая бедность во многих странах Африки, Азии, Латинской Америки. Именно это вызывает как борьбу за улучшение своей жизни, так и протест против экономической и политической глобализации, насаждаемой высокоразвитыми западными державами во всем мире. Особо необходимо выделить политическую составляющую глобализации – силовое навязывание своего образа жизни (демократического) народам, веками проживавшим в условиях иных социально-политических норм. Попытки США и их сателлитов с помощью оружия «демократизировать», например, Ирак, Иран, Ливию, Афганистан, Сирию и другие страны привели лишь к ответным силовым действиям.
При этом все же необходимо отметить, что как «генетический», так «социальный» подходы сводятся в конечном итоге к возникновению и разрешению социальных противоречий, возникающих в той или иной сложившейся ситуации. В первом случае это противоречие между сильной страстью к обладанию властью, богатством, к наслаждениям, стремлением получить как можно больше благ и избежать страдания, с одной стороны, и подобными же стремлениями со стороны другого субъекта – с другой. Во втором случае – это противоречие между сложившимся социальным положением субъекта, не удовлетворяющим его жизненные потребности, и невозможностью изменить это положение в силу функционирующего социально-политического и экономического строя или сложившейся международной ситуации.
Первопричины терроризма имеют те же корни, что и у конфликта. Вместе с тем имеются особенности, требующие рассмотреть эту проблему более подробно.
Первоначально напомним некоторые сущностные черты терроризма, отличающие его от конфликта как феномена общественной жизни.
Во-первых, терроризм – это применение крайних форм насилия (как правило, вооруженного) для достижения применяющими его своих узкосоциальных целей. Конфликт же не подразумевает обязательного применения крайних форм насилия. В соответствии с этим конфликт подразумевает и «мирные» формы принуждения противоположной стороны.
Во-вторых, терроризм как применение экстремального насилия преследует основную цель – превентивное устрашение государства или всего населения страны, инициирующее панику и массовое недовольство. Основной же целью конфликта является разрешение противоречия, породившего его, и дальнейшее общественное развитие на основе разрешения этого противоречия.
В-третьих, терроризму присуща такая черта, как попрание общественных норм, общепринятых и закрепленных как национальными, так и международными правовыми актами. Конфликт же, как отмечалось выше, по своему первоначальному предназначению призван решать возникшие противоречия, способствуя таким образом дальнейшему развитию общественных отношений и их законодательному нормированию.
Да, конфликты, начинающиеся с агрессии одной из сторон и ведущиеся экстремистскими методами, также могут нарушать общепринятые нормы, законодательные акты (в т.ч. и международные). Примером тому могут служить действия нацистов по отношению к мирному населению в годы Второй мировой войны, не санкционированные ООН бомбардировки НАТО Югославии в начале 90-х гг. прошедшего столетия и многие другие исторические факты. Подобное может наблюдаться и в ходе внутриполитических конфликтов, как, например, в современной Украине (вооруженное свержение законного правительства, садистское сожжение людей в здании профсоюзов в Одессе, продолжающиеся убийства мирных жителей на Донбассе и др.).
Вместе с тем подобные действия в ходе конфликта являются скорее исключением, нежели правилом.
В-четвертых, терроризм, в отличие от конфликта, всегда имеет политическую мотивацию. Запугивая своими действиями государство, население страны, террористы преследуют единую цель – заставить государственные органы принять необходимое для них политическое решение. Именно это, кстати, позволяет сразу исключить мафиозные «разборки», бандитские «войны» и т.п. из классификационного ряда терроризма, даже если они по характеру применяемых в них экстремистских методов борьбы ничем не отличаются от политических акций, что при этом позволяет некоторым исследователям все же причислять подобные уголовные деяния к терроризму.
И в-пятых, конфликт всегда предусматривает открытое противостояние сторон независимо от выбранных ими методов и средств, в т.ч. и экстремистских. Террористы же действуют как бы исподтишка, не рассчитывая на моментальный и адекватный ответ противоположной стороны.
Именно так поступали террористы-одиночки в XIX в., а также большинство радикальных партий и движений начала и середины прошлого столетия. При этом необходимо отметить, что их действия в условиях не открытого противостояния в ходе широкомасштабного общенационального социально-политического или экономического конфликта были направлены против конкретных лиц или государственных учреждений, с которыми, по мнению террористов, связывались развивающиеся в обществе противоречия.
В современном же мире террористическая деятельность запугивания в большинстве случаев применяется не только в условиях не открытого противостояния, но и «вслепую», против непосредственно не участвующих в конфликте людей, даже против политически индифферентной группы, не имеющей никакого отношения к данному конфликту, да и к политике в целом. Эти экстремистские действия могут даже осуществляться и на нейтральных территориях, в третьих странах [Кончугов и др. 2020].
История полна примеров подобных террористических деяний. Одним из первых был теракт во время проведения Олимпийских игр 1972 г. в Мюнхене, осуществленный террористической палестинской организацией «Черный сентябрь», который был направлен против израильских олимпийцев. Жертвами этого теракта стали 17 человек, в т.ч. и немецкие спецназовцы. Этот теракт расценивается многими исследователями проблем терроризма как зарождение международного терроризма. В дальнейшем наиболее значимыми террористическими акциями, направленными против непосредственно не участвовавших в конфликте людей, стали применение 20 марта 1995 г. боевого отравляющего газа «зарин» в токийском метро, в результате которого пострадали с различной степенью тяжести более тысячи человек; террористический акт, осу- ществленный летчиками-камикадзе 11 сентября 2001 г., направившими самолеты на Международный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, в результате которого погибли около 3 тыс. человек, и др.
Террор применяется и при ведении открытого конфликта. Например, в 1990-х – начале нулевых годов чеченские боевики в ходе открытого вооруженного противостояния с федеральными войсками для запугивания российского населения и государственных федеральных органов власти неоднократно производили взрывы, захватывали заложников на «мирной» территории России (захваты заложников в больнице Буденовска, в театральном центре на Дубровке, г. Москва, в школе Беслана, взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, взрывы в метро и др.
В соответствии с изложенным выше думается, что некорректно называть, например, проводимую сейчас украинскими властями вооруженную операцию в Донбассе как АТО (антитеррористическая операция). Там идет открытое противостояние сторон – гражданская война. Да, как уже отмечалось, в ходе вооруженного противостояния стороны могут применять террористические методы, но это не означает, что одна из сторон опирается лишь на террор как метод применения насилия.
И еще одна особенность. Террористы всегда придерживаются принципа «цель оправдывает средства». Они применяют любые средства вооружения, вплоть до оружия массового поражения. Действия террористов направлены на то, чтобы нанести как можно больший ущерб, не считаясь с человеческими жизнями. В ходе же конфликта стороны руководствуются (к сожалению, за нередким исключением) более гуманными принципами, обеспечивая, таким образом, не только разрешение породившего конфликт противоречия, но и дальнейшее мирное сосуществование и общественное развитие.
Исходя из приведенных выше рассуждений можно сделать вывод, что, несмотря на содержательные различия между понятиями «конфликт» и «террор», между ними имеется глубокая взаимосвязь и взаимозависимость. Последнее даже позволило английскому исследователю современного терроризма Б. Дженкинсу еще в третьей четверти прошлого века предположить, что международный терроризм стал новым типом политического конфликта [Jenkins 2008].
Так ли это? Ответ на этот вопрос может дать анализ содержания и динамики развития любого конфликта.
Согласно общепринятой в конфликтологической науке точке зрения, в структурное содержание конфликта входят субъекты конфликта, т.е. сталкивающиеся стороны; предмет конфликта – то, по поводу чего и произошло столкновение; противоречие (агонистическое – примиримое или антагонистическое – непримиримое), порожденное противоположными жизненно важными интересами субъектов конфликта; цели субъектов конфликта в предстоящем столкновении; методы и соответствующие им средства ведения конфликта.
Динамика же развития конфликта, как известно, включает в себя три основные стадии: латентную (скрытую, не заметную для всего общества), подразумевающую подготовку к предстоящему столкновению; стадию открытого противодействия сторон, применения насилия по отношению друг к другу; стадию урегулирования конфликта, подразумевающую прекращение силового взаимодействия сторон либо без разрешения противоречия, породившего конфликт, либо полного снятия этого противоречия.
Таким образом, террор (от лат. – страх, ужас) действительно является одним из методов, применяемых одной из сторон на второй стадии текущего конфликта. В ходе этого конфликта, призванного разрешить социальное противо- речие, удовлетворяющее жизненно важным интересам того или иного субъекта, зарождается еще одно противоречие: желание и необходимость объективно более слабой стороны разрешить породившее конфликт противоречие и неспособность ее к открытому широкомасштабному вооруженному противостоянию. В этом случае эта сторона и прибегает к террору как методу запугивания, устрашения противоположной стороны. Другими словами, террор в данном случае становится крайним методом решения возникшего антагонистического противоречия, когда другие возможные методы непосильны данной стороне конфликта. Именно это и наблюдается сейчас в ходе противостояния НАТО во главе с США и других высокоразвитых стран с менее развитыми в экономическом плане странами.
Список литературы Политические конфликты как первопричина терроризма
- Гусейнов А.А. 1994. Понятия насилия и ненасилия - Вопросы философии. № 6. С. 35-41.
- Кончугов А.В., Першин А.А., Рыжов О.А., Сацута А.И. и др. 2020. Международный терроризм как угроза и вызов человеческой цивилизации и противодействие ему в современных условиях: монография. М.: Изд-во ВУ. 260 с.
- Фельдман Д.М. 1998. Политология конфликта: учебное пособие. М.: ИД "Стратегия". 199 с.
- Jenkins B.M. International Terrorism: a New Kind of Warfare. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P5261.pdf (accessed 14.07.2021).