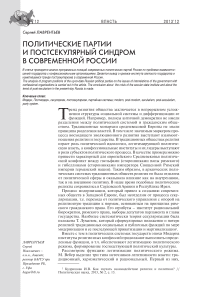Политические партии и постсекулярный синдром в современной России
Автор: Лаврентьев Сергей Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ программных позиций современных политических партий России по проблеме взаимоотношений государства с конфессиональными организациями. Делается вывод о кризисе института светского государства и наметившемся тренде постсекуляризма в современной России.
Модерн, постмодерн, секуляризм, постсекуляризм, партийная система
Короткий адрес: https://sciup.org/170166733
IDR: 170166733
Текст научной статьи Политические партии и постсекулярный синдром в современной России
Т ренд развития общества заключается в непрерывном усложнении структуры социальной системы и дифференциации ее функций. Например, полисы античной демократии не имели разделения между политической системой и гражданским обществом. Традиционные монархии средневековой Европы не знали принципа разделения властей. В том числе значимым маркером процесса восходящего эволюционного развития выступают взаимоотношения религии и государства. В традиционных обществах религия играет роль политической идеологии, легитимирующей политическую власть, а конфессиональные институты и их лидеры выступают в роли субъектов политического процесса. В качестве примера можно привести характерный для европейского Средневековья политический конфликт между гвельфами (сторонниками папы римского) и гибеллинами (сторонниками императора Священной Римской империи германской нации). Таким образом, в архаических политических системах традиционных обществ религия не была отделена от политической сферы и оказывала влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику. В наше время подобные политические реликты сохранились в Саудовской Аравии и Республике Иран.
Процесс модернизации, который привел к созданию современных обществ в Западной Европе, был неотделим от процесса секуляризации, т.е. перехода от политического управления с опорой на религиозную традицию к нормам, основанным на принципах римского гражданского права. Его атрибуты – институт рациональной бюрократии, римского права, выборы депутатов парламента и главы государства. Наиболее систематически теория секуляризации была изложена Т. Луманом, который сформулировал положение о потере религией традиционных социальных и публичных функций по мере модернизации и ее последующей приватизации и маргинализации 1 .
ЛАВРЕНТЬЕВ Сергей
Вместе с тем в политических системах государств эпохи Модерна институты религиозных конфессий продолжают выполнять определенные функции, в т.ч. обеспечивают легитимацию политического режима, формирование господствующей политической культуры.
Рассмотрим функцию легитимации политического режима. М. Вебер выделил три типа источников легитимности власти: традиционный, харизматический и рациональный. Первый из них, характерный для традиционного общества, рациональный – для социумов Модерна. В этом аспекте Российская Федерация имеет статус предельно секуляризированного государства. Согласно Конституции страны 1993 г., «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом»1. Вместе с тем в политическом процессе России церемонии участия главы государства в отправлении религиозного культа Русской православной церкви стали заурядным явлением. Они неизменно освещаются в государственных общественно-политических средствах массовой информации и сопровождаются одобрительными комментариями со стороны журналистского сообщества. Подобные политико-религиозные акции стали непременным атрибутом Дня инаугурации Президента России. Хотя, конечно, кандидаты на пост президента США в ходе предвыборной кампании также совершают визиты в офисы влиятельных конфессиональных общин с целью расширить свою электоральную базу.
Функция формирования господствующей политической культуры состоит в том, что система стереотипов поведения, которые выстраивалась веками под влиянием господствующих религиозных конфессий, не исчезают бесследно. Они влияют на эволюцию политических ценностей, традиций, неформальных норм и всего того, что входит в понятие «политическая культура». Например, М. Вебер считал буржуазные революции Европы продуктом протестантской религиозной этики. Англосаксонская школа компаративной политологии долгое время усматривала истоки либеральной демократии в духе протестантского свободомыслия, тогда как авторитаризм считался следствием влияния католической конфессии: «До Второй мировой войны очень большая часть католиков региона крайне недоверчиво относились к демократии, если не были открыто антидемократичны. Они рассматривали демократию как служанку большевизма и предпочитали авторитарные режимы ...» 2
В целом, необходимо согласиться с профессором И.В. Кудряшовой в том, что «религиозная составляющая в структуре политической идентичности может выступать как основа формирования групп с чувством общих интересов и целей и позволяет предъявлять требования к государству, изменять существующие рамки доступа к власти и определять ее легитимность. Значимость религиозной идентичности для политического анализа возрастает в условиях усиления глобализационных процессов, когда рост взаимозависимости и одновременно неопределенности побуждает сообщества обращаться к наиболее устойчивым формам идентификации» 3 .
Если секуляризм политическая наука прочно увязывает с Модерном, то явление так называемого постсекуляризма считается маркером эпохи Постмодерна. В политологии под термином «постсекуляризм» на сегодняшний день понимается «рост значения религиозного фактора в публичной сфере» 4 . Его признаками стали исламский ренессанс в странах Ближнего Востока, революция в Иране, исламизация Африки и граждан США афроамериканского происхождения, массовый переход в протестантизм жителей Южной Кореи, отказ от официального государственного атеизма на постсоветском пространстве.
Рассмотрим влияние идей секуляризма и постсекуляризма на партийную систему современной Российской Федерации.
С одной стороны, если проанализировать законодательство, регулирующее деятельность политических партий, томожно оценить Россию как одну из самых секуляризированных стран мира. Например, даже в названии регистрируемой политической партии не должно содержаться намеков на ее конфессиональную принадлежность. Закон «О политических партиях» гласит, что «не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности»5. Под признаками профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности в федеральном законе понимается указание в уставе и программе политической партии целей защиты профессиональных, расовых, национальных или религиозных интересов, а также отражение указанных целей в наименовании политической партии.
Постановлением Конституционного суда РФ от 15.12.2004 № 18-П п. 3 ст. 9 Федерального закона «О политических партиях» признан не противоречащим Конституции РФ в части, не допускающей создание политических партий по признакам национальной или религиозной принадлежности.
Членство в политической партии России не может быть ограничено по признакам профессиональной, социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности.
Не допускаются пожертвования политической партии и ее региональным отделениям от благотворительных организаций и религиозных объединений, а также от учрежденных ими организаций.
С другой стороны, политические партии России формулируют определенную позицию по проблеме построения идеальной модели взаимодействия религиозных общественных организаций с государством. Проведенный нами анализ показал, что российские политические партии различного идейного спектра не имеют консолидированной позиции по данному вопросу. Исследования показали, что вопросы конфессиональной политики находятся на периферии межпартийного дискурса. Ни для одной из наиболее значимых партий России проблема взаимодействия с религиозными общественными организациями не является основополагающей.
Здесь необходимо отметить, что в анализе партийного поля современной России мы используем не «линейную» (правые – левые или либералы – консерваторы), а собственную, «двухмерную» партийную классификацию. Партийная система современной России состоит из праволиберальных («Гражданская платформа», «Правое дело»), левоконсервативных (КПРФ), правоконсервативных («Единая Россия», ЛДПР) и леволиберальных («Яблоко» и «Справедливая Россия») партий.
На позициях выраженного секуляризма стоят партии праволиберального спектра. Наиболее динамично развивающаяся из них – «Гражданская платформа» – в своей политической программе обещает «гарантировать недопущение деятель- ности политических партий, национальных и религиозных объединений в любых государственных образовательных учреждениях»1.
«Гражданская платформа» выдвигает проект принятия религиозного или светско-общественного кодекса в виде «свода федеральных законов, напрямую опирающихся на ст. 14 Конституции РФ и наполняющих эту статью современным практическим содержанием».
В рамках данного кодекса партия предполагает обеспечить реализацию запрета политики преимуществ в отношении любой конфессии, какими бы мотивами (массовостью, историческими заслугами, компактным проживанием ее приверженцев) эти преференции ни были бы мотивированы; сохранение светского характера государственной общеобразовательной школы как базиса современного общества и светского характера российского государства и внерелигиозного характера деятельности всех силовых структур (включая вооруженные силы).
На аналогичной позиции стоит дру -гая праволиберальная партия – «Правое дело». Вот небольшая выборка цитат из соответствующей партийной программы: «Мы выступаем против насаждения любой идеологии или религиозного культа <…> за полную свободу ненасильственного выражения любых политических и религиозных убеждений <...> мы выступаем за создание в России необходимых условий для межнационального и межконфессионального мира, за построение светского государства и формирование российской гражданской нации, против любой дискриминации по этническому, национальному и религиозному признакам» 2 .
В теоретическом аспекте важно отметить, что российские партии, позиционирующие себя как правые, придерживаются секулярных позиций, тогда как классические правые партии США и ЕС выступают в поддержку религиозного института как части традиционных ценностей. Этот феномен является еще одним доводом в защиту наш ей гипотезы о формировании в
России особого партийного типа – праволиберальных партий, которые разделяют правые ценности по проблемам экономического развития и леволиберальные – по вопросам взаимоотношения государства и конфессиональных организаций, а также иных ценностей, считающихся «традиционными».
Полярной позиции придерживается партия «Единая Россия». Феномен партии власти заключается в том, что предвыборная программа именно этой политической организации более всего подвержена идеям постсекуляризма. По мнению «партии президентского большинства», «любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности». Хотя допускается оговорка, что «он должен, прежде всего, быть гражданином России и гордиться этим» 1 .
Далее в анализируемом документе декларируется, что «никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности выше законов государства». Однако следом поясняется, что «при этом сами законы государства должны учитывать национальные и религиозные особенности».
Далее говорится о необходимости воспитывать приверженность семье, ответственность за судьбу Отечества, уважение к людям, учить беречь природу, что обогащает общество, объединяет его для новых свершений. Возрождению и укреплению этих ценностей следует всемерно содействовать через развитие культуры, сотрудничество с традиционными российскими религиями.
Продвигается идея возрождения Закона Божьего в качестве предмета общеобразовательной школы, а также института капелланов в армии: «Мы приветствуем и будем поддерживать работу традиционных религий России в системе образования и просвещения, в социальной сфере, в Вооруженных силах. При этом должен быть, безусловно, сохранен светский характер нашего государства». Таким образом, модель, предлагаемая избирателям «Единой Россией», рассматривает традиционные конгрегации в качестве корпораций, получающих особые права от государства в обмен на политическую лояльность и сотрудничество.
Либерально-демократическая партия, также относящаяся к правоконсервативному спектру партийного поля, в представленной избирателям программе не расставляет выраженные религиозные акценты, однако в многочисленных интервью лидера партии В.В. Жириновского выдвигается идея о придании русскому православию статуса государственной религии.
Прочие парламентские и непарламентские партии занимают позиции, промежуточные между модальными позициями «Единой России» и праволиберальных партий. Леволиберальные партии «Яблоко» и «Справедливая Россия» в своих программах не формулируют свое отношение к проблемам, связанных с религией.
КПРФ не является классической левой партией с точки зрения традиционной европейской классификации. Например, политологи США считают серьезным видовым отличием Демократической партии от Республиканской тот факт, что последние признают существование Бога, тогда как демократы позиционируют себя как атеисты (агностики). Эту группу людей в США иногда обозначают термином nones . То есть, атеизм – это маркер демократов как левой партии, теизм – правых республиканцев. Сформировавшиеся под влиянием европейских идей первые большевики во главе с В.И. Лениным были последовательными атеистами. Уже в ходе Великой Отечественной войны коммунистическое государство вступило с традиционными конфессиональными организациями, и прежде всего с русским православием, в корпоративные отношения.
В программе КПРФ, позиционирующей себя как правопреемницу КПСС, научный атеизм не упомянут. Вместе с тем в документе указывается, что «у нее есть реальные и потенциальные политические союзники. Это – партии и общественные объединения левого, социалистического спектра, прогрессивные патриотические движения. Это профсоюзы, рабочие, крестьянские, женские, ветеранские, молодежные, религиозные, просветительские, творческие, экологические, антиглобалистские и иные общественные организаци и» 2 .
То есть, конфессиональные организации указаны в качестве потенциальных союзников российских коммунистов.
Таким образом, проведенный нами анализ показал, что Россия вступила в эпоху партийного постсекуляризма. Как отмечает профессор В.С. Слобожникова, «в современных условиях религия перестала быть частным делом человека, она вернулась в политику» 1 , и религиозность используется в качестве ресурса. Имея самое секулярное партийное законодательство, запрещающее использование названий религиозных конфессий даже в наименовании политических партий, Россия имеет партии, ставящие в качестве программной цели использование религиозных организаций в социальном и политическом управлении. Праволиберальные партии, отстаивающие принципы секуляризма, имеют весьма незначительный электоральный рейтинг и не пользуются поддержкой государственных институтов. Напротив, постсекуляризм в различных его формах располагает значительно большей электоральной поддержкой и патронажем со стороны политико-административного класса. Поэтому, если применить метод экстраполяции, вектор развития модели государственно-конфессиональных отношений в России, по всей видимости, будет развиваться в заданном направлении. В пользу последнего вывода говорит и демографический тренд состава населения. Например, в Евросоюзе «изменение религиозной структуры населения западноевропейских стран под влиянием иммиграции не только вызывает к жизни идеи постсекуляризма, но и стимулирует стремление защищать аутентичные ценности» 2 . Нечто подобное мы наблюдаем и в современной России.
Причем, согласно законам диалектики, процесс постсекуляризации несет в себе не только позитивные потенции, но и серьезные политические риски.
Первый из них можно обозначить как риск усиления гражданского размежевания между различными конфессиональными группами, поскольку «использование властью растущей религиозности россиян в качестве политического ресурса не только повышает соперничество между различными религиозными объединениями, но и неизбежно заставляет делать выбор в пользу одной из конфессий»3.
Второй риск заключается в ослаблении института гражданской политической социализации и замена его институтом религиозно-политической социализации. В этом случае политическая лояльность граждан будет направлена на конфессиональные, а не политические институты. Следовательно, выстраиваемая «Единой Россией» модель «государство – религия», будет заменена моделью «религия – государство». Но в этом случае Россия как поликонфессиональная страна перестанет существовать, а значит, неминуемо утратит свою территориальную целостность.
Третий риск состоит в угрозе дестабилизации политической обстановки в результате усиления религиозного фундаментализма. Вне всякого сомнения, политическая власть в России адекватно осознает эти угрозы. 15 октября 2013 г. Государственная дума сразу во 2-м и 3-м чтениях приняла закон, согласно которому, в частности, «глава муниципального образования может быть отправлен в отставку за то, что не предотвратил межнациональный или межконфессиональный конфликт» 4 . Прогнозируется возрождение министерства по вопросам национальной политики и межконфессиональным отношениям.
Вместе с тем, какие бы тактические меры в русле религиозной политики ни предпринимали политические элиты, стратегически в России светскому государству нет альтернативы. Недопустимо слепо копировать чужой опыт, например опыт постсекулярной Турции. Нам необходимо найти собственную модель постсекуляризма. Его формула – взаимодействие светского государства с религиозными организациями как элементами гражданского общества, влияние конфессиональных организаций на власть не непосредственно, а через институты гражданского общества, например общественное мнение. Только такой механизм способен обеспечить межнациональный мир и стабильность политической системы в России.