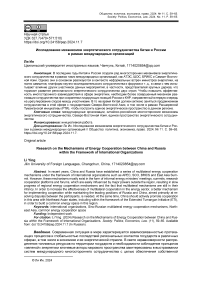Политические риски реализации власти в Российской Федерации: организационный аспект
Автор: Панеш К.М.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
В исследовании рассматриваются политические риски в условия реализации власти, а также возникновение негативных последствий. Определяются изменения в структуре государственной власти, что позволяет реализовать организационно-правовую трансформацию сложной системы отношений между носителями власти и обществом и делает возможным рассмотрение вопроса о факторах политического риска в противовес обобщающим универсальным суждениям. Властные полномочия осуществляются через конкретные решения людей, их авторитет и знания, решительность и твердость, умение подчинить других своей воле. При этом носители власти, не обладающие этими качествами, входят в зону политических рисков. Они естественным образом прекращают свою деятельность, теряют власть в процессе возникновения противоречий. Процесс накопления последних на стадии перехода от одной общественно-экономической формации к другой определяет основы трансформационных рисков, с которыми сталкивается государственная власть в результате значимых общественных и культурных сдвигов. Автор делает выводы, что политические риски на современном этапе развития страны влияют на политическую обстановку, их минимизация является жизненно важным приоритетом в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.
Политики, власть, решения, конфликты, риски, геополитика, международные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/149147015
IDR: 149147015 | УДК: 321.01 | DOI: 10.24158/pep.2024.11.8
Текст научной статьи Политические риски реализации власти в Российской Федерации: организационный аспект
Введение. Современная ситуация в мире характеризуется взаимосвязанностью протекающих процессов и глобальностью последствий региональных контактов государств в различных сферах, в том числе в экономике и ее энергетической отрасли. В свете неравномерности распределения топливных ресурсов по территории государств и необходимости соблюдения принципов «зеленой» энергетики ключевые акторы мирового пространства заинтересованы в выстраивании систем международного многостороннего сотрудничества с целью обеспечения собственной энергетической безопасности и поддержания развития национальной экономики. Сотрудничество России и Китая как государств-лидеров ряда международных организаций, объединивших своей деятельностью целый ряд государств, в контексте обеспечения нужд региона Северо-Восточной Азии в источниках топлива имеет особое значение.
Целью настоящего исследования является рассмотрение роли России и Китая в создании механизма осуществления многостороннего международного сотрудничества в сфере энергетики и реализации его возможностей в рамках функционирования межгосударственных образований.
Задачами работы выступили следующие:
-
– рассмотрение современного положения дел в глобальной энергетической сфере, преимущественно в регионе Северо-Восточной Азии;
-
– установление действующих стратегий взаимодействия России и Китая между собой и с государствами, входящими в качестве членов в международные структуры – ШОС, БРИКС и др.;
-
– определение внешнего влияния на эффективность энергетического партнерства государств региона;
-
– обозначение перспектив и необходимых изменений механизмов энергетического сотрудничества Китая и России в рамках международных организаций.
Методами исследования послужили преимущественно общенаучные – наблюдение, сравнение, обобщение, также был использован аналитический обзор научной литературы с целью обнаружения точки зрения ученой общественности на предмет нашего исследования, а также метод перспективного планирования, позволивший сформулировать собственное авторское видение необходимых изменений в действующий механизм китайско-российского сотрудничества в сфере энергетики и установления многосторонности этого процесса с использованием инструментов межгосударственных объединений.
Основная часть . В последние годы, по мере того как Китай и Россия ищут возможности для реализации сотрудничества в энергетической сфере, они пытаются выработать эффективные механизмы для обеспечения этого и вовлечения третьих стран, сопряженных с ними территориально, в совместное решение вопросов энергетического сотрудничества с низкой степенью институционализации. Общая картина отношения государств региона к инициативе взаимодействия выглядит следующим образом.
Китай, Япония и Южная Корея сохраняют стратегическую сдержанность при присоединении к небольшим проектам в этой сфере, Северная Корея выразила готовность участия в межправительственном механизме сотрудничества в области энергетики Северо-Восточной Азии. Россия как основной экспортер нефти и газа не определилась в своем отношении к энергетическому сотрудничеству с государствами региона. С одной стороны, посредством финансовой помощи она поддерживает с ними контакт в этой сфере, а с другой – пассивно препятствует развитию сети трубопроводов природного газа в Северо-Восточной Азии, пытаясь ослабить региональное влияние других акторов.
Следует отметить, что многосторонние механизмы взаимодействия обеспечивают ограниченное сотрудничество государств в энергетической сфере. Китаю и России трудно добиться эффективного их функционирования за счет малых объемов задействования, поэтому они пытаются искать возможности сотрудничества по региональным энергетическим вопросам на более широкой многосторонней арене. АТЭС, АСЕАН и Саммит Восточной Азии используются в качестве деловых площадок для переговоров Китая, России и других стран по энергетическим вопросам. Инициативой КНР стало создание ШОС, Организации по развитию и кооперации глобального энергетического объединения и программы партнерского взаимодействия «Пояс и путь», что также расширило возможности для координации энергетических вопросов между государствами Северо-Восточной Азии, заинтересованными во взаимодействии в обозначенной сфере. Однако механизмы энергетического сотрудничества, формируемые в рамках этих международных структур и в ходе организации неформальных встреч министров энергетики, проведения саммитов, форумов научно-исследовательского характера, не обеспечивают полноценного взаимодействия, характеризуясь фрагментарностью и непрозрачностью региональной энергетической кооперации. В ходе переговорного процесса, организованного с использованием указанных механизмов, не удалось институционализировать коммуникацию представителей государств региона относительно стратегических резервов и контроля колебания цен на энергоносители. Однако даже при сравнительно низкой эффективности данные механизмы, по мнению исследователей, дают определенные результаты в деле обеспечения энергетической коммуникации госу-дарств1. Речь в этом случае идет о развитии сотрудничества Китая и России не только в сфере традиционной эксплуатации энергоносителей, но и в области инновационных и альтернативных источников обеспечения энергозатрат экономики обеих стран.
Принципиальные позиции Китая и России с точки зрения основного содержания их энергетических стратегий определяют их действия в организации многостороннего сотрудничества. Так, приоритетами КНР в этом контексте являются следующие: экономия потребления энергии, охрана окружающей среды и стремление к построению стабильной, чистой, безопасной и надежной системы энергоснабжения страны. В «Стратегическом плане действий по развитию энергетики (2014– 2020 гг.)», обнародованном канцелярией Госсовета КНР в 2014 г., были уточнены пять стратегических задач по развитию энергетики, в том числе оптимизация структуры этой отрасли экономики, снижение доли потребления угля, увеличение доли использования природного газа, безопасное развитие атомной энергетики и активное внедрение возобновляемых источников топлива1. Кроме того, в связи с глобальной трансформацией ископаемой энергии, введением и реализацией «зеленого» курса Евросоюза и других факторов, Китай стремится к тому, чтобы: 1) потребление чистой энергии превысило 80 % от его общего объема к 2060 г. – времени, когда вторая по величине экономика мира планирует стать углеродно-нейтральной; 2) достичь пика выбросов углерода к 2030 г.2 В контексте глобальной переориентации мировой экономики на развитие «зеленой» энергетики на неформальной встрече лидеров АТЭС в 2007 г. была принята Сиднейская декларация глав государств и правительств АТЭС об изменении климата, энергетической безопасности и «зеленого» развития3. Кроме того, на Форуме по чистой энергетике Восточноазиатского саммита4 и Форуме энергетического сотрудничества БРИКС5 в рамках многостороннего механизма взаимодействия в сфере экологичного потребления энергии были выработаны прямые руководящие правила для стран-участниц (Shahbaz et al., 2016).
В 2024 г. члены БРИКС еще больше усилили внимание к сотрудничеству в области чистой энергетики. Стоит отметить, что 28 июня 2024 г. было объявлено о создании в Нижнем Новгороде Контактной группы по климату и устойчивому развитию6. Впоследствии, 30 августа текущего года, на состоявшемся в Москве диалоге высокого уровня по изменению климата, все стороны приняли «Рамочную программу сотрудничества в области изменения климата и устойчивого развития». Кроме того, страны БРИКС также начинают создавать платформу исследований климата, стремясь усилить обмен мнениями, знаниями и применение передового опыта между учеными и экспертами в рамках контактной группы для совместного решения проблем глобального изменения климата. Кроме того, в качестве эффективного дополнения к существующим многосторонним и региональным финансовым институтам стран БРИКС Китай инициировал и способствовал создание Нового банка развития. На сегодняшний день одобрено в общей сложности 108 кредитных проектов на сумму более 36 млрд долл. До 2026 г. финансовая организация планирует предоставить странам – членам БРИКС материальную помощь в размере до 30 млрд долл., 40 % из которых будут сосредоточены на проектах возобновляемой энергетики7.
Председатель КНР Си Цзиньпин 26 сентября 2015 г. на саммите Генеральной Ассамблеи ООН выступил с инициативой Китая по продвижению экологически чистых способов удовлетворения глобального спроса на электроэнергию, которая получила широкую поддержку со стороны международного сообщества. В марте 2016 г. была создана Организация по развитию и кооперации глобального энергетического объединения (GEIDCO)8.
30 марта 2016 г. Государственная электросетевая корпорация Китая, Корейская электроэнергетическая корпорация, Японская холдинговая компания и «Россети» подписали в Пекине Меморандум о сотрудничестве в области создания объединенной энергосети в Северо-Восточной Азии. В рамках сотрудничества стороны намерены создать совместную рабочую группу по изучению и анализу потенциала развития объединенной энергосистемы Северо-Восточной Азии, а также разработать предварительный план эволюции энергосистем стран Тихоокеанского региона1. Это свидетельствует о том, что глобальный энергетический Интернет, за который выступает Китай, начал свое развитие в Северо-Восточной Азии, но сотрудничество большинства акторов данного проекта все еще находится на стадии согласования и неэффективно реализовано на данный момент. 22 февраля 2017 г. GEIDCO провела пресс-конференцию результатов своей деятельности в Пекине и опубликовала итоги трех исследовательских проектов, издав: «Белую книгу о стратегии развития глобального энергетического Интернета», «Технологии и перспективы трансграничной и трансконтинентальной электронной межсистемной связи» и «Развитие и будущее глобального энергетического Интернета (2017)»2. С момента создания GEIDCO, несмотря на то, что было озвучено много конструктивных мнений и планов и проведено множество конференций по всему миру, участникам не удалось найти практических и эффективных решений в реальной работе глобальной энергетической взаимосвязи (Сюй Хунфэн, Ван Хайянь, 2017). Они требуют ускорения создания поддерживающих механизмов энергетического сотрудничества в рамках благоприятной геополитической среды, содействия инвестициям, планированию и строительству энергетической инфраструктуры, увеличения масштабов международной торговли электроэнергией и разрешения возможных споров. Совершенный механизм энергетического сотрудничества еще не создан.
Что касается внешнего влияния на эффективность подобного взаимодействия со стороны могущественных акторов мировой политики, то чем выше уровень институционализации, тем легче ограничить власть великих держав. Как неформальный международный механизм китайско-российское энергетическое сотрудничество имеет относительно низкий уровень институционализации, поэтому его эффективность подвержена влиянию ряда держав во главе с США3 (Ло, 2024).
Возьмем Индию в качестве примера, иллюстрирующего вмешательство глобальных игроков в процесс выработки механизма энергетического сотрудничества между странами. До 1990-х гг. экономическое развитие этой страны было относительно медленным, а спрос на нефть и природный газ невелик, поэтому проблема нехватки природных топливных ресурсов не стояла на первом месте. Страны Персидского залива могли удовлетворить большую часть потребностей экономического развития государства. После того как Индия провела реформы в 1991 г., экономика ее начала быстро развиваться, а спрос на источники энергии значительно увеличился. Сегодня Индия является третьим по величине потребителем сырой нефти и нефтепродуктов после США и Китая. Разрыв между внутренним предложением сырой нефти и спросом на нее увеличивается с каждым годом. В 2019 г. спрос на сырую нефть достиг 4,9 млн баррелей в день, а внутреннее производство сырой нефти и жидких нефтепродуктов составило менее 1 млн баррелей в день4. В то же время чтобы выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению Конференции ООН по изменению климата, Индия также постоянно оптимизирует свою структуру энергопотребления, снижает объемы востребованного угля и увеличивает долю чистой энергии за счет природного газа и ядерных разработок. Кроме того, для решения проблемы дефицита энергии Индия увеличила долю импорта в этой сфере. При этом большую часть нефти она получает из региона Персидского залива. Из-за сложной геополитической обстановки на этой территории и частых конфликтов между крупными странами-экспортерами «черного золота», предложение нефти в этом регионе очень нестабильно, а цены на энергоноситель сильно колеблются в краткосрочной перспективе, что серьезно угрожает нефтяной безопасности Индии. В частности, в 2019 г. США ввели санкции против Ирана, запретив импорт нефти из этой страны, а Иран является третьим экспортером данного источника топлива в Индию, что вынудило последнюю искать новые источники нефти для удовлетворения своих потребностей в энергопотреблении и обеспечения национальной нефтяной безопасности.
Что касается Китая и России, то действующие механизмы двустороннего энергетического сотрудничества между ними сегодня становятся все более и более зрелыми (Кашбразиев и др., 2022). На основе тесного укрепления связей с существующими организациями международного взаимодействия Китай и Россия постоянно расширяют горизонты многостороннего сотрудничества, которые в большей степени соответствуют реальным потребностям всех его участников. Однако из-за низкой обязывающей силы существующего механизма китайско-российского энергетического партнерства правительствам двух стран следует усилить и ускорить совершенствование законодательства в обозначенной сфере. Необходимо не только пересмотреть и дополнить соответствующие внутренние законы и правила, но и создать орган по урегулированию споров для обеспечения эффективного выполнения соответствующих двусторонних договоренностей, чтобы обеспечить постоянное углубление энергетического сотрудничества между двумя странами и совершенствование его механизма реализации. Например, в рамках ШОС Китай и Россия должны в полной мере использовать свои лидирующие позиции, чтобы призвать других участников объединения принять многостороннюю договорно-правовую базу и подписать конкретные правовые документы, способные обеспечить успешное развитие энергетического сотрудничества всех акторов организации. Создание многосторонней договорно-правовой базы ШОС в сфере энергетики может уменьшить трения в торговле энергоресурсами между государствами-членами, а также снизить риски конкуренции между предприятиями отрасли1. В рамках Шанхайской организации сотрудничества может быть создана арбитражная группа, состоящая из экспертов из разных стран, призванная разрешать споры между государствами-участниками в энергетической сфере. Согласно инициативе, после возникновения конфликтной ситуации спорящие стороны сначала проводят консультации самостоятельно, а если они не могут прийти к соглашению о решении, они могут подать заявление о создании арбитражной группы для рассмотрения их спора. Такая команда должна включать профессионалов из 3–5 стран, не являющихся вовлеченными сторонами и не представляющими ни одно государство во время своей работы, ее состав расформировывается после выполнения задачи разрешения спора. Создание договорно-правовой базы многостороннего энергетического сотрудничества поможет не только эффективнее разрешать различные противоречия и споры в текущем процессе китайско-российского энергетического сотрудничества, но и позволит обеим сторонам защищать свои законные интересы легитимными средствами (Чжан Сяоцзюнь, 2015: 5).
В настоящее время Россия активно выступает за создание Международного инвестиционного арбитражного центра БРИКС. «С расширением торгово-экономических связей между нашими странами возрастает потребность в создании общих институтов, которые позволяли бы выстраивать долгосрочные партнерские отношения на началах равноправия. При этом неизбежно возникают международные споры, которые требуют урегулирования», – отметил Константин Чуйченко на Совещании министров юстиции БРИКС, которое состоялось 18 сентября 2024 г. в Москве2.
В то же время Китаю также следует обратить внимание на то, что с точки зрения действующего механизма регионального энергетического сотрудничества, Северо-Восточная Азия сильно отстает от других регионов мира и все еще находится в начальной стадии развития, что создает проблемы для поддержания энергетической безопасности региона. В настоящее время некоторые страны Северо-Восточной Азии включены в деятельность глобальных или региональных энергетических организаций, среди которых – АТЭС, Шанхайская организация сотрудничества; они также являются участниками Расширенной туманганской инициативы и Форума стран Северо-Восточной Азии по природному газу и газопроводам (NAGPF) и т.д. (Энергетическое сотрудничество России и Китая и его роль в развитии АТР …, 2024). Однако в регионе еще не создан специальный механизм энергетического сотрудничества, охватывающий всех заинтересованных акторов.
Северо-Восточная Азия, являющаяся местом пересечения «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути» XXI в. является чрезвычайно важным регионом как для геополитической безопасности Китая, так и для периферийного экономического сотрудничества стран, это также важная область, которой невозможно избежать при реализации инициативы «Пояс и путь» (Ши Юаньхуа, 2015: 49). Чтобы построить энергетическое сообщество СевероВосточной Азии с единой судьбой, Китай должен активно укреплять взаимодействие с заинтересованными акторами в рамках Расширенной Туманганской инициативы (РТИ).
В настоящее время из-за огромных различий в политических системах, социальных культурах, идеологиях и других аспектах между странами субрегиона, механизмы сотрудничества и организационная структура РТИ являются относительно свободными, что затрудняет продвижение интеграционных механизмов. Исходя из вышеизложенного, Китай должен быть ориентирован в этом отношении на долгосрочную перспективу. Прежде всего необходимо продолжать повышать уровень участия национальных и местных органов власти в проектах сотрудничества РТИ. Этого можно добиться, переведя межгосударственные контакты на министерский уровень, что обеспечит более выраженный прогресс в установлении взаимных прав и обязательств.
Кроме того, необходимо предприятия из разных стран, включая Китай, Россию, Монголию и Южную Корею, а также связанные с ними транснациональные предприятия поощрять к участию в инвестициях, реализации и эксплуатации различных проектов. Например, Международная сельскохозяйственная и продовольственная выставка в Чанчуне может стать важной платформой для субрегионального сельскохозяйственного сотрудничества (Ян Сюэ, 2020: 42). Также перспективно совместное участие предприятий разных стран в разработке различных соглашений и планов действий РТИ, чтобы их действия по сотрудничеству были более целенаправленными, а принимаемые коллективно меры были ориентированы на эффективное решение актуальных проблем в трансграничной экономической сфере и приносили ощутимую пользу предприятиям и регионам.
Наконец, имеет смысл рассмотреть возможность постепенного расширения масштабов субрегионального сотрудничества. Например, территориально в него могут быть включены прибрежные районы Японского моря, Южной Кореи и прилегающие территории Северной Кореи, весь Дальний Восток России, что повысит инвестиционный престиж Тюменской области, тем самым позволив ей достигнуть устойчивого развития в регионе.
Заключение . В настоящее время тенденция глобализации мирового топливного рынка становится все более очевидной. Создание единого энергетического пространства в мире и усиление взаимодействия между региональными и национальными агентствами, работающими в этой сфере, являются базовыми характеристиками развития мирового энергетического рынка1. Поэтому в процессе построения китайско-российского механизма многостороннего сотрудничества необходимо активно содействовать объединению государств Северо-Восточной Азии в рамках использования ими общих инструментов коммуникации в сфере энергетики.
Список литературы Политические риски реализации власти в Российской Федерации: организационный аспект
- Баграмян А.Ю. Специфика принятия управленческих решений в государственном управлении // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых ученых. Брянск, 2023. С. 203-208.
- Болгов Н.В. Приоритеты развития государственной политики в сфере деятельности войск национальной гвардии // Стратегическая стабильность. 2020. № 2 (91). С. 25-29.
- Булавина М.А., Новосельский С.О. Перспективы военной безопасности России в существующей геополитической конъюнктуре // Межгосударственное противоборство в условиях глобализации и его влияние на управление национальной обороной Российской Федерации. М., 2023. С. 105-112.
- Василевич Г.А. Органы представительной и исполнительной власти как субъекты конституционного контроля // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. 2023. Т. 68, № 3. С. 248-254. https://doi.org/10.29235/2524-2369-2023-68-3-248-254.
- Власенко Н.А. Отклоняющееся государство: учение Аристотеля и постсоветская реальность // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2021. Т. 25, № 3. С. 479-505. https://doi.org/10.22363/2313-2337-2021 -25-3-479-505.
- Грачев М.Н. Власть как форма социальной коммуникации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2011. № 1. С. 106-113.
- Иванова С.Ю. Межэтническая интеграция в поликультурном социуме // Наука и образование сегодня. 2016. № 9 (10). С. 99-102.
- Киреева И.В. Структура механизма укрепления доверия власти: теоретико-методологический анализ // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2021. № 3 (284). С. 72-77. https://doi.org/10.53598/2410-3691-2021-3-284-72-77.
- Мартынова Е.В. Влияние общественного мнения на принятие политических решений с помощью социальных сетей // Государство, общество, бизнес в условиях цифровизации. Саратов, 2020. С. 126-128.
- Новосельский С.О., Моисеева О.А., Филиппова О.А. Коммуникационная политика органов исполнительной власти с населением в социальных сетях // Вопросы политологии. 2023. Т. 13, № 3 (91). С. 1001-1013. https://doi.Org/10.35775/PSI.2023.91.3.011.
- Петров А.В. Межэтнические конфликты и толерантность // Евразийский союз ученых. 2015. № 2-3 (11). С. 97-98.
- Полтавская Ю.Н. Радикализм и экстремизм в современной России: политические смыслы // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2012. Т. 12, № 2. С. 104-107.
- Самофалов С.П. Власть права и власть конституции в Российской Федерации // Конституция Российской Федерации: 30 лет со дня принятия. Пермь, 2023. С. 104-106.
- Терехов Е.М. Интерпретационные нормы: понятие и правовая природа // Правовая парадигма. 2021. Т. 20, № 1. С. 73-78. https://doi.Org/10.15688/lc.jvolsu.2021.1.11.
- Царев А.В., Крупенков В.В., Миненко Т.К. Проблема доверия к власти в России // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2014. № 4. С. 118-121.
- Шах М.Ю. Проблема принятия политических решений в условиях ресурсных ограничений // Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности. М., 2023. С. 773-779.
- Юткина С.М. О сущности государственного принуждения // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1 (68). С. 130-133.