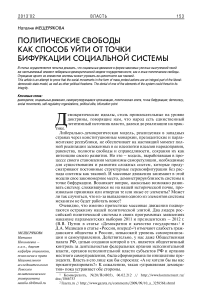Политические свободы как способ уйти от точки бифуркации социальной системы
Автор: Мещерякова Наталия Николаевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществляется попытка доказать, что социальные движения в форме массовых уличных движений такой же неотъемлемый элемент либерально-демократической модели государственности, как и иные политические свободы. Отрицание одного из элементов системы может угрожать ее целостности как таковой.
Демократия, социальные движения, саморегулирующиеся организации, политическая элита
Короткий адрес: https://sciup.org/170166815
IDR: 170166815
Текст научной статьи Политические свободы как способ уйти от точки бифуркации социальной системы
Д емократические идеалы, столь привлекательные на уровне доктрины, говорящие нам, что народ есть единственный легитимный источник власти, далеки до реализации на прак-
Либерально-демократическая модель, реализуемая в западных странах через конституционные монархии, президентские и парла-ментские республики, не обеспечивает на настоящий момент пол ной реализации заложенных в ее идеологии идеалов народоправия, равенства, полноты свободы и справедливости, сохраняя их как интенцию своего развития. Но это — модель, выработавшая в про -цессе своего становления механизмы саморегуляции, необходимые для существования и развития сложных систем, которые преду сматривают постоянные структурные переконфигурации без рас -пада системы как таковой. И массовые движения занимают в этой модели свое закономерное место, демонстрируя близость системы к точке бифуркации. Возникает вопрос, насколько возможно разви-вать систему, сложившуюся не на нашей исторической почве, про извольно принимая или отвергая те или иные ее элементы? Может ли так случиться, что из за выпадения одного из элементов системы механизм не будет работать вовсе?
МЕЩЕРЯКОВА Наталия
Очевидно, что именно протестные массовые движения подвер -гаются остракизму нашей политической элитой. Два лидера рос -сийской политической системы в своих программных заявлениях накануне парламентских выборов 2011 и президентских — 2012 г. (В.В. Путин в статье «Демократия и качество государства»1 и Д.А. Медведев в статье «Россия, вперед!»2) отмечают слабость гражданского общества в России, невысокий уровень самоорганиза ции и самоуправления. Действительно, у нас даже Общественная палата РФ, целью создания которой в т.ч. является общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, была сформирована по инициативе пре зидента. Власть в его лице как бы спросила: «А не хотели бы вы нас проконтролировать?» К сожалению, такая «управляемая демокра- тия» пока ус траивает обе стороны.
Представители власти, очевидно, не хотели бы допускать активности масс в виде социальных движений, предла-гая иные формы развития общественной самодеятельности. Д.А. Медведев пишет в своей статье о том, что форсировать изменения системы они, т.е. власть, не дадут, спешить не будут, что они не вправе рисковать общественной стабильностью и ставить под угрозу безопасность граждан ради каких-то абстрактных теорий. Он также пишет, что российская демократия не будет механически копировать зару бежные образцы, что гражданское обще ство не купить за иностранные гранты, а политическую культуру не переделать простым подражанием политическим обычаям передовых обществ.
Как власти желали бы, чтобы в россий -ском обществе развивалась демократия, видно из статьи В.В. Путина. Он также отмечает, что демократия не создается одномоментно, не копируется по чужому образцу и что общество должно быть готово к использованию демократических механизмов. «Сложносоставная социаль-ная реальность», о которой говорит Путин, требует политической системы, которая отражала бы интересы больших социаль ных групп и обеспечивала бы публичное согласование этих интересов. Для этого требуется, по его мнению, развитие само регулирующихся организаций, компе тенции и возможности которых должны расширяться. Они должны использовать имеющиеся у них полномочия, разраба тывать и вносить на утверждение техни ческие регламенты и национальные стан дарты в соответствующих отраслях и видах деятельности. В статье премьер настой чиво связывает развитие демократии с развитием общественных самодеятельных организаций и общественного контроля за деятельностью властей всех уровней. «Демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффек тивные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и “обратной связи”». Здесь Путин говорит о качестве политического участия, которое должно выражаться в общегражданском обсужде нии законопроектов, решений, программ, принимаемых на всех уровнях государст венной власти, оценке действующих зако нов и эффективности их применения. Понятны желание и надежда на то, что демократия будет реализовываться через мирные, созидательные формы. Но когда так было в России? И почему непременно будет теперь?
В статье множество допущений. В ней говорится, что люди в 90 -е гг. не умевшие быть хозяевами своей судьбы, привыкшие ждать милости у государства, не умевшие противостоять манипулированию (все это определения автора), сегодня являются народом, который больше не купится на различного рода политтехнологии. «Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным и ответственным. Нам надо обновить механизмы нашей демократии. Они должны “вместить” воз -росшую общественную активность».
То есть, это надо понимать так. В Греции, протестуя против заключения грече ским правительством стабилизационного соглашения с Европейским союзом и Международным валютным фондом, штур-муют здание парламента, кидая камнями в полицейских и поджигая все, что попада ются на пути. В Испании демонстранты, требуя социальных реформ и отмены жестких антикризисных мер, идут на те же стычки с полицией. А у нас демократия выразится через мирную законотворче скую деятельность в рамках общественных организаций. Видимо, из за более сильных демократических традиций?
В своей работе Д.А. Медведев, с одной стороны, пишет о широко распространен ных в обществе патерналистских настрое ниях, о безынициативности, дефиците новых идей, низком качестве обще ственной дискуссии, молчаливых формах согласия и поверхностных и безответ ственных формах несогласия. Но, с дру гой стороны, он заявляет: «Политическая система России также будет предельно открытой, гибкой и внутренне сложной. Она будет адекватна динамичной, под вижной, прозрачной и многомерной социальной структуре. Отвечать поли -тической культуре свободных, обеспе ченных, критически мыслящих, уверен ных в себе людей. Как и в большинстве демократических государств, лидерами в политической борьбе будут парламент ские партии, периодически сменяющие друг друга у власти. Партии и их коалиции будут формировать федеральные и регио нальные органы исполнительной власти (а не наоборот), выдвигать кандидатов на посты главы государства, руководите лей регионов и местного самоуправления.
Они будут иметь длительный опыт цивилизованной политической конкуренции. Ответственного и содержательного взаимодействия с избирателями, межпартийного сотрудничества и поиска компромиссных вариантов решений острейших социальных проблем. Соединят в политическое целое все части общества, граждан всех национальностей, самые разные группы людей и наделенные широкими полномочиями российские земли». Как? Когда? Почему? Где тот механизм превращения пассивного и безынициативного общества, безответственно критикующего власть, в общество организованных, ответственных, граждански сознательных людей? А если сами мы хотим выражать свое несогласие через бунт? Может, государство в лице своих институтов способно осуществить этот проект по воспитанию нашей гражданской сознательности?
Д.А. Медведев сам в своей статье отмечает избыточность присутствия государства во всех сферах деятельности. Еще Э. Дюркгейм, анализируя возможности государственной власти, писал, что она стремится поглотить все формы деятельности, которые носят социальный характер, но она не годится для такого огромного числа функций и плохо с ними справляется. «Много раз уже было замечено, что ее страсть все захватывать равна только ее бессилию. Только болезненно перенапрягая свои силы, сумела она распространиться на все те явления, которые от нее ускользают и которыми она может овладеть, лишь насилуя их. Отсюда расточение сил, в котором ее упрекают и которое действительно не соответствует полученным результатам». Но и освободить человека от всякого социального давления, с точки зрения Дюркгейма, нельзя, это его деморализует. «В то время как государство бухнет и гипертрофируется, чтобы прочно охватить индивидов, и не достигает этого, индивиды, ничем между собою не связанные, катятся друг через друга, как молекулы жидкости, не встречая никакого центра сил, который бы их удержал, прикрепил, организовал»1.
Современные социологические теории «перезагрузки государства» и «кризиса легитимности», объясняя кризис власти, в котором оказались современные западные государства, исходят из ряда общих положений. В них утверждается, что авторитет власти, а также сложившиеся формы поддержки партий подорваны в результате растущих к ним претензий. Обе теории сходятся на том, что правительствам трудно контролировать те аспекты социальной и экономической жизни, на которые они в своих программах обещали оказывать влияние, т.е. власти западных стран взяли на себя больше обязательств, чем реально могут выполнить. В результате: «крупные правительственные структуры стали обслуживать только самих себя; кроме того, они становились все менее управляемыми и не отвечали тем нуждам, ради которых были созданы»2.
Безусловно, для демократического гражданского общества деятельность различного рода саморегулирующихся организаций, не подконтрольных напрямую власти, принципиально важна. Собственно, только это может свидетельствовать о сформированности и зрелости самого гражданского общества. Но их деятельность не отменяет, а дополняет механизм саморегуляции, связанный с социальными движениями, выборами, т.е. полным набором политических свобод. Нельзя сказать: участвуйте в контроле деятельности органов власти посредством общественных организаций, а на митинги не ходите, поскольку это хулиганство и вандализм, проплаченные З ападом, нисколько не соответствующие нашему менталитету и национальным традициям.
Что касается последних, то пассивность российского общества, конечно, можно связать со всей его исторической судьбой. Но в т.ч. она объясняется и сегодняшним состоянием политико-правовой системы России. Обратимся к опросу, проведенному Левада-Центром 21–24 сентября 2012 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1 601 чел. в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Предмет исследования – протестные настроения россиян.
По вопросу, поддерживают ли россияне проходящие с декабря 2011 г. массовые акции протеста («за честные выборы»,
«марш миллионов» и т.п.) наблюдается слабая колебательная динамика от дека -бря к сентябрю. Ответы перераспределя-ются в парах: «определенно поддерживаю — скорее поддерживаю» и «скорее не под -держиваю — совершенно не поддержи -ваю». Стоит отметить, что, во - первых, за прошедшее с декабря месяца время устой -чиво оформилась часть общества, кото -рая скорее поддерживает протестующих (38%), и так же определилась часть обще -ства, не поддерживающая движение про теста (45%). Во - вторых, с началом осени наблюдается перегруппировка ответов в пользу более однозначно заявленных позиций: «определенно» и «совершенно».
В то же время свою личную готовность участвовать в подобных акциях в сентя бре 2012 г. выразили: «определенно да» — 6%, «скорее да» — 11%. Однозначно не готовы участвовать в подобных меро приятиях 47% и скорее не готовы — 27%. И эти показатели за прошедший период демонстрируют опять таки устойчивую динамику. По - прежнему наше общество демонстрирует «молчаливый протест» по отношению к социальной ситуации, кото рая его не устраивает. Но значит ли это, что оно избегает конфликтных форм про теста и предпочитает созидательную де ятельность в рамках саморегулирующихся организаций?
Проведем корреляцию полученных дан -ных с результатами по еще одному вопросу из предлагаемого исследования. Он сфор мулирован так: «Как Вы считаете, ужесто-чение законодательства, преследования и попытки запугивания лидеров оппозиции и людей, выходящих на акции протеста, в дальнейшем будут усиливаться или не будут иметь продолжений?» В сентябре 2012 г. 22% респондентов ответили: «будут усиливаться», «сохраняться на нынешнем уровне» — 37%, «не будут иметь продолже-ния» — 18%, «их нет и не будет» — только 4% и 19% затруднились ответить.
На мой взгляд, данный вопрос можно отнести к внушающим, он изначально предполагает высокий уровень политиче ских преследований в России и навязывает это мнение респондентам. Кроме того, он сложносочиненный: одной составляющей вопроса является — будут ли продолжаться преследования или нет, а второй — будут ли они усиливаться или нет. Но даже несмотря на эти погрешности, не может не броситься в глаза, что 59% опрошенных фактически согласны с тем, что в нашей политической системе наличествуют пре следования и попытки запугивания оппо зиционеров1.
Получается, что неучастие в массовых движениях протеста значительной части общества связано не с одобрением офици альной политики, не с готовностью выра жать свою позицию через деятельность общественных самодеятельных организа ций, а со страхом перед возможным нака занием. Пока ресурса власти достаточно для того, чтобы фактически подавлять поднимающуюся волну социального воз мущения, дискредитируя его лидеров, навешивая на них ярлыки о проплачен ности всех их действий Западом, о неза-конных доходах и пр. Да и сам протест, надо признать, таков, что с ним возможно справиться. Но вопрос в том, способны ли и готовы ли представители власти точно оценить ситуацию и в определенный момент пойти на переговоры и уступки, чтобы не превратить незначительную флуктуацию в системе в снежный ком непредсказуемых и неуправляемых собы тий, когда система начнет достраиваться по никем не предвиденному сценарию.
Система, коей является общество, — это сложнейший механизм, в котором каж дой шестеренке отводится важное место. Массовые движения в формах уличного протеста — не исключение. Инициирует ли их общество и допускает ли их власть — это не только показатель зрелости демо-кратических институтов, но и способ выхода общества за пределы своей транс ценденции, когда важные решения, изме няющие траекторию развития общества, могут быть приняты не иначе как под дав лением.