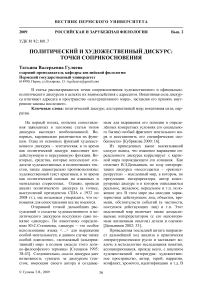Политический и художественный дискурс: точки соприкосновения
Автор: Гуляева Татьяна Валерьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 2 (2), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются точки соприкосновения художественного и официально-политического дискурсов в аспекте их взаимодействия с адресатом. Вокативная сила дискурса втягивает адресата в пространство «альтернативного мира», заставляя его принять внутренние законы последнего.
Политический дискурс, альтернативный мир, вокативная сила, нарратив
Короткий адрес: https://sciup.org/14728747
IDR: 14728747 | УДК: 81?42;
Текст научной статьи Политический и художественный дискурс: точки соприкосновения
На первый взгляд, попытка сопоставления заявленных в заголовке статьи типов дискурса выглядит необоснованной. Во-первых, кардинально различаются их функции. Одна из основных функций художественного дискурса – эстетическая, в то время как политический дискурс выполняет воздействующую и персуазивную функции. Во-вторых, средства, которые используют создатели художественных и политических текстов, также диаметрально противоположны: художественный текст креативен, в то время как политический основан на языковых и ментальных стереотипах. Однако, проведя анализ политического дискурса (а точнее, выступлений президентов США с 1932 по 2008 гг.), мы возьмемся утверждать, что основания для сопоставления все же имеются.
Отправной точкой дальнейших рассуждений о сходстве художественного и политического дискурсов послужило само понятие «дискурс». По известному определению Ю.С.Степанова, «дискурс – это особое использование языка <…> для выражения особой ментальности, в данном случае также особой идеологии», «возможный (альтернативный) мир» в полном смысле этого логико-философского термина» [Степанов 1995: 38-43]. Следовательно, анализ дискурса дает возможность «увидеть за дискурсом (текстом, имеющим своего автора и создавае-
мым для выражения его позиции в определённых конкретных условиях его социального бытия) особый фрагмент ментального мира и восстановить его специфические особенности» [Кубрякова 2000: 16].
Из приведенных выше высказываний следует вывод, что языковое выражение определенного дискурса коррелирует с картиной мира порождающего его сознания. Как отмечает В.З.Демьянков, по ходу интерпретации дискурса «воссоздается – «реконструируется» – мысленный мир, в котором, по презумпции интерпретатора, автор конструировал дискурс и в котором описываются реальное, желаемое, нереальное и т.п. положение дел. В этом мире мы находим характеристики действующих лиц, объектов, времени, обстоятельств событий (в частности, поступков действующих лиц) и т.п. Этот мысленный мир включает также домысливаемые интерпретатором (с его неповторимым жизненным опытом) детали и оценки» [Демьянков 2002: 33].
Приведенная последней цитата направляет дальнейший ход анализа в практически литературоведческое русло и заставляет вовлечь в методологию исследования понятия, ассоциирующиеся, прежде всего, с анализом художественной литературы: художественное пространство, автор, герой, нарратив, конфликт, хронотоп, идентификация и т.д. В
рамках данной статьи будут рассмотрены три из них: дискурсивное пространство, нарратив, идентификация.
Под дискурсивным пространством мы понимаем модель мира со своими особыми законами течения времени, представлениями об истории и будущем, ценностными ориентирами и т.д. Если дискурс рассматривается как «альтернативный мир», то автор дискурса является демиургом этого мира. Художественный мир и символическое пространство произведения находятся полностью в его власти. По его желанию развиваются события, встречаются между собой герои, по его усмотрению формируется образ физического пространства. Если в художественном дискурсе [далее – ХД] получают отражение взгляды и ценности писателя, то то же можно сказать и об образе мира, создающемся в нехудожественном дискурсе (в частности, масс-медиальном и политическом). Этот образ также является не объективным отражением действительности, а изображением, основанным на авторской интерпретации и требованиях формата. Полученный образ определяет дальнейшее восприятие человеком событий реального мира: «логика, которую привносит средство коммуникации в мир, конструируя порядок, апеллирует к «мелодраматическому воображению», заставляя осмысливать реальность в понятиях художественного произведения» [Зверева 2002].
В политическом дискурсе [далее – ПД] роль демиурга символического (внутреннего) пространства играет институт власти и представляющий его человек или группа. И это отнюдь не побочный эффект политической деятельности. Как утверждается в социально-конструктивистской парадигме, основная деятельность и основной инструмент власти – производство символов, а монополия на моделирование и структурирование символического пространства, производство символов, модификацию их идеологической коннотации является одним из главных ее атрибутов [Ильин 1996].
Порождая дискурс, автор-демиург в ПД строит репрезентацию реальности, куда включается следующая информация:
-
• модель социально-символического пространства;
-
• описание пространства, времени и потока событий;
-
• образы и наименования действующих в нем субъектов (персонажей), в том числе образ самого автора;
-
• эталон «нормативности» и ценностные ориентиры;
-
• символическая граница между сферой «нормы» и «антинормы»;
-
• вектор развития (улучшения) ситуации и т.п.
Автор-демиург наделен правом селекции топонимов, персоналий и значимых событий, которые получат символическое значение в творимом им пространстве. Кроме того, весьма существенно то, что, поскольку «в мире всякого дискурса действуют <…> свои правила истинности» [Степанов 1995: 43], для анализа дискурса в таком ключе становятся нерелевантным выдвижение к автору требований о соблюдении объективности, правдоподобности, правдивости, честности и т.д. Критика по этим параметрам изначально выводится за рамки исследования. Целью анализа в таком случае становится простое воссоздание ментального мира, создаваемого дискурсом.
Художественное произведение не мыслится без нарратива , т.е. без повествования о событиях, образующих его сюжет. Последний, в свою очередь, не возможен без конфликта и создаваемой им напряженности. Все это в полной мере относится и к внутреннему миру ПД. Апеллятивный и инвока-тивный эффект ПД достигаются при помощи нарратива, т.е. подачи информации в форме повествования, разворачивающегося на глазах у аудитории.
Управление вниманием аудитории посредством нарративной формы подачи информации продемонстрировано в романе Джулиана Барнза History of the World in 10 ½ Chapters, в котором один из захваченных палестинскими террористами заложников рассказывает остальным о корнях арабоизраильского конфликта и причинах их захвата: «He [Franklin, the lecturer – Т.Г.] felt his audience begin to relax. The circumstances were unusual, but they were being told a story, and they were offering themselves to the story-teller in the manner of audiences down the ages, wanting to see how things turned out, wanting to have the world explained to them» [Barnes 2005: 65-66].
Как видно из приведенного фрагмента, звучащий рассказ способен привлечь внимание людей и управлять им, а человек, излагающий историю, автоматически получает доверие аудитории и право на интерпретацию мира для нее, становится ее легитимным лидером на время звучания истории.
Особенностью нарратива ПД и существенным отличием от нарратива современного ХД является его принципиальная стереотипность, уходящая корнями в архетипическую бинарную систему, которая лежит в основе современной западной культуры и выражается в оппозициях типа «верх – низ», «свет – тьма», «жизнь – смерть», «добро – зло», «правда – ложь» и т.п.
Сегодняшняя цивилизация далека от того, чтобы видеть мир в черно-белом свете. Об этом можно судить, в частности, по произведениям художественной культуры, где от изображения «святых» и «грешников» искусство пришло к образу противоречивого персонажа, которого невозможно оценивать в биполярной системе. В философии на протяжении веков также разрабатывались дуальные модели («материальное – идеальное», «реальное – трансцендентальное» и т.п.), но современная философия постмодернизма на концептуальном уровне предлагает вместо дуальной модели модель ризомы [Ж.Делез, Ф.Гваттари 1976]. Данная модель нашла отражение в тех изменениях, которые произошли в обществе и общественном сознании (особенно западноевропейском и американском) за последние пятьдесят лет: в появлении культа diversity и political correctness , девизом которой могла бы послужить фраза It takes all sorts to make the world . Вместо того, чтобы разделять общество на «нормативных» людей и «аутсайдеров», европейское и американское общество сегодня включает всех на равной основе и гордится этим.
Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно, что ризоматиче-ская система, в которой «everyone is different, everyone is equal», пока присутствует лишь на рациональном уровне общественного сознания. На подсознательном же его уровне и особенно в коллективном бессознательном доминируют все те же бинарные структуры, которые слишком укоренены в культуре, чтобы быть вытесненными новыми идеями.
В политическом дискурсе эта тенденция к сосуществованию двух систем проявляется в полной мере. Принципы политкорректности декларируются в нем на вербальном уровне, однако глубинная структура дискурсивного пространства основана на тех же древних архетипических бинарных оппозициях «добро – зло», «мы – они» и т.п.
Объяснение этому найти несложно. Если дискурсивное пространство ПД рассматривать как аналогию художественного мира, то к нему можно применить те же законы, которым подчиняется художественное произведение. Художественное произведение не бывает без сюжета, а сюжет не возможен без завязки, развития и кульминации, которые, в свою очередь, представляют собой события. Событие же, по Ю.М.Лотману – это всегда «пересечение символической границы»: между «центром и периферией, живыми и мертвыми, богатыми и бедными, своими и чужими, правоверными и еретиками, просвещенными и непросвещенными, людьми Природы и людьми Общества и т.д.» [Лотман 1970]. Чем резче проведена граница, тем сильнее событийность ее пересечения, тем напряженнее сюжет [Эпштейн 1999].
Художественное произведение, лишенное напряженного развивающегося сюжета, в большинстве случаев не вызывает интереса массовой публики. То же можно сказать и о политическом дискурсе, в котором отсутствует интрига. Поэтому автор политического дискурса, в интересах которого привлечение внимания (и голосов) как можно большего количества людей, использует этот простой способ достижения своей цели: организует свой дискурс как захватывающий напряженный сюжет, в развитии которого предлагается участвовать и аудитории.
Однако сюжет ПД похож не на современные литературные произведения с их сложнейшими переплетениями и отсутствием однозначных оценок, а на первые произведения человечества – мифологические сюжеты. Возможно, это происходит потому, что мифологические сюжеты, как уже отмечалось выше, лежат в основе цивилизации и позволяют свести всю сложность отношений и оценок к простой, прозрачной и понятной бинарной оппозиции. Тот факт, что мифологическая система – это часть коллективного бессознательного, «на руку» автору политического дискурса, так как бессознательное чаще всего не рационализируется и, соответственно, не подвергается критическому осмыслению. Кроме того, архетипические сюжеты (например, сюжет с участием Героя, Злодея и Жертвы) подкрепляются многократной редупликацией в массовой культуре, особенно в американском кинематографе, что делает апелляцию к ним еще более эффективной.
Одним из факторов, сближающих процесс восприятия художественного и политического дискурса, является тенденция к идентификации. В литературоведении под идентификацией понимается стремление читателя воспринять художественный мир произведения как мир реальный. «По мере погружения в текст читатель «отменяет» ту дистанцию, которая существует между ним и текстом, что может привести, например, к его самоотождествлению с персонажами» [Ляпушкина 2002: 71].
Если в случае с ХД читатель погружается в мир художественного произведения, в дискурсе с выраженной воздействующей функцией (например, политическом или рекламном) происходит обратное: экспансия автора в картину мира адресата . Это значит, что автор не просто зашифровывает свою картину мира в дискурсе и предлагает его аудитории для расшифровки. Автор конструирует дискурс таким образом, чтобы реципиенты могли опознать в нем свою собственную картину мира. В результате в процессе коммуникации посредством дискурса создается общий для автора и реципиентов «ментальный мир», который осознается реципиентами как «свой».
Соответственно, когда автор дискурса приглашает реципиента принять участие в разворачивающейся в «реальном времени» истории, то реципиент воспринимает это как участие именно в «своей» истории, происходящей в «своем» мире.
В этом мы усматриваем проявление во-кативной силы дискурса, т.е. его способности не просто воздействовать на сознание реципиента, а взаимодействовать с ним.
Как художественный, так и политический дискурс отображает индивидуализированный образ мира, характерный для автора того или иного произведения. Дискурсивное пространство строится воображением его автора и отражает «внетекстовую» реальность лишь косвенно. Однако, по выражению Р.Барта, «книга творит смысл, а смысл, в свою очередь, творит жизнь» [Барт 1994: 490], и, следовательно, дискурсивный образ мира оказывает влияние на восприятие индивидом реального мира.
Assistant Professor of English Philology Department
Perm State University
Список литературы Политический и художественный дискурс: точки соприкосновения
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/пер с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: "Прогресс", 1994. 615 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома (Тысяча Плато)/пер. с фр.//Альманах "Восток". N 11\12 (35\36), ноябрь-декабрь 2005 г. http://www.situation.ru/app/j_artp_1023.htm>
- Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии//Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. М.: ИНИОН РАН, 2002 г. № 3. С.32-43.
- Зверева В.В. Репрезентация и реальность//«Отечественные записки» №4, 2003. http://culturca.narod.ru/streal.htm>
- Ильин М.В. умножение идеологий, или проблема "переводимости" политического сознания. -URL:http://www.politstudies.ru/fulltext/1997/4/6.htm
- Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике//Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты: сб. обзоров/РАН ИНИОН Центр гуманитарных научно-информационных исследований, отд. языкознания; отв. ред. С.А.Ромашко и др. М., 2000. С.7-25.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
- Степанов Ю.С. Альтернативный мир, дискурс, факт и принципы причинности//Язык и наука конца ХХ века. М.: Прогресс, 1995. С. 35-73.
- Эпштейн М. Русская культура на распутье. Секуляризация, демонизм и переход от двоичной модели к троичной//Звезда (Спб.), 1999, №1. С.202-220; № 2. С.155-176.