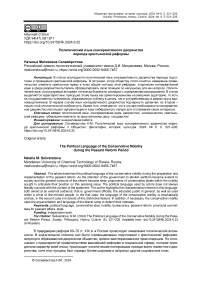Политический язык консервативного дворянства периода крестьянской реформы
Автор: Селиврстова Н.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется политический язык консервативного дворянства периода подготовки и проведения крестьянской реформы. В ситуации, когда обществу стало понятно намерение правительства отменить крепостное право и ясны общие контуры этой реформы, сторонники консервативной идеи в среде дворянства пытались сформулировать свою позицию по насущному для них вопросу. Политический язык, используемый акторами, не всегда буквально совпадал с содержанием высказывания. В статье выделяются характеристики, присущие этому языку как ориентированному на внешнюю аудиторию, то есть на государственных чиновников, образованную публику в целом, так и употребляемому в рамках круга единомышленников. В первом случае язык консервативного дворянства подчеркнуто архаичен, во втором - лишен этой отличительной особенности. Кроме того, отмечается, что в случае необходимости консервативное дворянство использует аргументацию и язык либерального лагеря для отстаивания своих интересов.
Политический язык, консервативная идея, дворянство, чиновничество, крестьянская реформа, губернские комитеты по крестьянскому делу, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/149145936
IDR: 149145936 | УДК: 94(47).081:811 | DOI: 10.24158/fik.2024.6.32
Текст научной статьи Политический язык консервативного дворянства периода крестьянской реформы
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия, ,
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Russia, ,
При этом те, кого называли консерваторами или либералами в России предреформенного периода, в действительности не являлись сторонниками консервативной и особенно либеральной идей в их классическом понимании, связанном с политической реальностью стран Западной Европы. Уточнение рамок консервативного и либерального поля идей в России всегда было конкретно, зависело от ситуации, времени, контекста.
Целью данной статьи является изучение консервативного дискурса, причем не только формировавших его главных идей, но и политического языка, включая анализ аргументации, которую используют его участники в ходе определения своей позиции по отношению к актуальной повестке дня и, в особенности, к правительственной программе крестьянской реформы, что позволит воссоздать многообразную, лишенную упрощений и схематичности реалистичную картину, представляющую расстановку политических сил в образованном, преимущественно дворянском обществе. Кроме того, подобный подход позволит проследить становление и развитие оригинальной российской консервативной идеи на рубеже 50–60 гг. XIX в.
Политический дискурс и язык в настоящее время чаще всего изучаются в рамках лингвистики либо политической филологии (Демьянков, 2002). В отечественной историографии исследование политических идей, общественно-политических взглядов середины XIX в. представляет собой длительную традицию, начало которой было положено буквально через пару десятилетий от изучаемой эпохи крестьянской реформы. Критически оценивая преобразования 60–70 гг. XIX в., результаты их воздействия на экономическое и политическое положение высшего сословия, авторы многочисленных работ предлагали консолидацию российского дворянства, усиление его позиций в системе местного управления и сохранение его преобладающего влияния на крестьянство (Ярмон-кин, 1895; Семенов, 1898). Ценность этих публикаций для современного исследователя заключается в том, что они представляют собой не вполне отрефлексированную, отчасти эмоциональную реакцию на произошедшие события, занимают нишу, находящуюся между публицистикой и историографией более позднего периода. Особенно отметим, что изучение истории консервативной мысли в последние десятилетия переживает настоящий подъем (Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика …, 2000; Шульгин, 2009). Среди современных исследователей консерватизма середины XIX – начала XX вв. следует отметить работы А.Ю. Полунова (Полунов, Лукашин, 2013), раскрывшего роль и место неоднозначно воспринимаемой в общественном сознании фигуры К.П. Победоносцева в идейном поле своей эпохи (Полунов, 2010). Важный вклад в исследование наследия консервативной мысли, в том числе и одного из наиболее ярких действующих лиц царствования Александра III В.П. Мещерского внесла Н.В. Черникова (Черникова, 2017).
Заметное место в ряду исследований, появившихся в последние десятилетия и посвященных изучению консерватизма второй половины XIX столетия, занимают работы петербургского историка А.Э. Котова (Котов, 2019, 2020).
Но до настоящего времени исследователей преимущественно занимал вопрос о персоналиях политической истории, содержании политических идей, а не о средствах их выражения. В данной статье будет предпринята попытка первого подхода к изучению политического языка консервативного дворянства периода подготовки к крестьянской реформе. Автор использует метод текстологического анализа, предполагающего анализ используемых понятий и терминов, а также конкретно-исторического контекста их использования.
Данная статья основана на использовании как опубликованных, так и архивных источников. Использованы документы из фонда П.А. Валуева (Ф. 908), графов Шуваловых (Ф. 1092), которые находятся в Российском государственном историческом архиве, материалы из Государственного архива Российской Федерации, фонд 945 (В.А. Долгорукова). Архивные документы большей частью представляют собой источники личного происхождения, а именно: письма, адресованные как частным, так и официальным должностным лицам, записки.
Российская консервативная идея, известная сегодня преимущественно по триаде «самодержавие, православие, народность» в период, предшествовавший освобождению крестьян, отнюдь не ограничивалась полным отказом от преобразований. Среди стана консерваторов были так называемые «крепостники», но даже они не всегда напрямую формулировали свое полное несогласие с любыми реформами. Лишь немногие представители дворянства, как правило, люди в возрасте, могли позволить себе восхваление крепостного права и патриархальной старины, с ним связанной. Тексты, написанные сторонниками отжившего социального института, чрезвычайно архаичны уже по своей форме, а также и по используемой лексике.
Вот что пишет 19 сентября 1861 г. курский помещик из Фатежского уезда Ф.А. Бурнашев, участник Отечественной войны 1812 г., князю В.А. Долгорукову, начальнику III отделения Собственной Его Императорского величества канцелярии, предлагая увеличить время обработки земли временнообязанными крестьянами для увеличения урожаев: «Впрочем, Светлейший князь, скажу за Апостолом: несть нам разумети времени и лета, что будет, то будет, а что будет, на то воля Божья и нашего царя»1. При описании взаимных обязательств помещика и временнообязанных крестьян автор письма намеренно использует термин «бояре», вышедший из употребления. «Поставить в непременную обязанность в настоящее время, покамест кончатся обязательные отношения мужика к помещику, чтобы мужик и баба работали на владельца земли шесть дней в неделю с половины тягла…, и дело будет хорошо и безобидно как боярину, так и крестьянину, и полезно для блага Отечества!»2.
Завершает свое письмо Ф.А. Бурнашев смиренным признанием несущественными возможные потери дворянства от проводимого освобождения крестьян. «Ведь мы поклялись, русские, служить ему, батюшке-царю и Отечеству до последней капли крови, то что значат наши имения! Пустяки, лишь бы жертвы наши и преобразование крестьян послужили к благу и спокойствию Отечества нашего и славе августейшего монарха, вот девиз русского дворянина: любить царя своего паче жизни своей!»3. В далеком 1812 г. прапорщик императорской свиты квартирмейстерской части Ф.А. Бурнашев был награжден за храбрость Знаком отличия Военного ордена, орденом Св. Анны 4 степени. Всю свою жизнь беззаветно служивший Царю и Отечеству, мог ли он отойти от привычной ему в течение всей его жизни стилистики общения с вышестоящими инстанциями? Другой вопрос, был ли он искренен, когда говорил о готовности потерять свое имение.
В период подготовки реформ 60–70 гг. XIX в. господствующим в общественном сознании было либеральное течение. В условиях, когда власть намеревалась провести преобразования, разрушающие архаические формы социальной жизни, главным из которых выступало крепостное право, а также сопряженные с ним политические структуры, представителям образованного общества, наиболее чутким к веяниям, доносившимся с самодержавного Олимпа, стало понятно, какие идеи стали актуальными в текущей повестке дня.
Это осознание привело к тому, что, даже защищая консервативные идеи, многие их сторонники прибегают к аргументам, присущим противоположному лагерю, то есть либералам. Этот способ доказывать свою точку зрения, являющуюся в своей основе выражением консервативной идеи, был характерен для петербургского губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян. В качестве примера можно привести доклад А.П. Платонова Петербургскому губернскому дворянскому собранию4. «Право личной свободы и право собственности – два необходимых условия существования общества. Без них немыслима цивилизация»5, – вот как выражается главная идея выступления царскосельского уездного предводителя дворянства А.П. Платонова. Затем он определяет незаконную природу крепостного права: «Человек потому-то и не может быть крепостным, что ни по духу, ни по законам разума он не может быть собственностью другого, то есть вещью в юридическом смысле этого слова»6.
Из тезисов о личной свободе человека и священного права собственности А.П. Платонов выводит мысль о необходимости выкупа государством обязательного труда крестьян как части собственности, принадлежащей помещику. В этом вопросе А.П. Платонов совершенно противоречит намерениям правительства, неоднократно заявлявшего о запрете выкупа личной зависимости крестьян.
Также из этого вполне либерального тезиса знакомый с диалектикой оратор выводит прежде всего идею о священном праве собственности помещиков на всю землю. В этом он был вполне согласен с большинством петербургского губернского комитета по крестьянскому вопросу. В столичной губернии среди помещиков возобладала идея создания поземельной аристократии по английскому типу. С их точки зрения, крестьяне могли выкупить только усадебную землю с правом пользования полевым наделом. В этом вопросе А.П. Платонов не был согласен с большинством комитета: он фактически выступал за лишение крестьян земли, а «в отношении пользования» ими – за «добровольное соглашение между помещиком и крестьянами касательно найма, постоянного пользования и купли»7.
Подобно другим членам петербургского комитета по крестьянскому делу А.П. Платонов избрал Великобританию тем образцом, к которому нужно привести российскую действительность. Сравнивая Францию, где было большое количество крестьян – земельных собственников, и Англию, где поземельная собственность в крестьянской среде была меньше распространена и отмечалось значительное число сельских арендаторов, А.П. Платонов подчеркивает тот факт, что валовый доход Франции вчетверо меньше, чем в Соединенном Королевстве. С его точки зрения, это доказывает, что массовая крестьянская поземельная собственность не приносит государству никакой пользы. «Для государства же в видах его будущего благосостояния несравненно важнее приобретать в число поземельных собственников людей трудолюбивых и сведущих в сельском хозяйстве, приобретших кроме того достаток, нежели поддерживать лень и невежество почти даровою собственностью. Теперь хотят наделить всех без разбору крестьян, способных и неспособных к столь трудному и искусному делу, каково есть земледелие»1. Что же касается поземельного налога, его, по мнению А.П. Платонова, вполне логично предоставить уплачивать помещикам.
Однако в вопросе об организации управления в деревне после отмены крепостного права А.П. Платонов стоит на позициях общесословного выборного принципа. В этом он был не одинок. В наибольшей степени общероссийский политический дискурс приобрел либеральную окраску после крестьянской реформы. На языке, совсем им не свойственном, сторонники дворянских привилегий заговорили о созыве всесословного всероссийского выборного органа власти. Они как будто старались пойти дальше правительства в деле либерализации политической системы общества, на деле скрывая консервативный смысл своего высказывания. Это понял один из виднейших представителей либеральной мысли в России К.Д. Кавелин. В отличие от многих своих современников-дворян он считал преждевременным введение в России представительных начал на уровне высшей власти (Кавелин, 1862). Общественный деятель понимал, что ведущей силой в представительном органе власти всероссийского уровня в пореформенной России неизбежно будет дворянство, в котором консервативные настроения были преобладающими.
Интересно соотнести язык, который используют в своей переписке представители консервативного лагеря с тем, что используется ими в текстах, ориентированных на публичное восприятие. Н.А. Безобразов, известный противник крестьянской реформы, в письме А.П. Платонову из Милана от 18 января 1858 г. образно и откровенно высказывает свои мысли: «Как видно, тяжелый камень брошен в воду. Кто его вытащит? Много надеюсь на Вас: без сомнения Вы избраны членом Комитета… Ради Бога, защитите, по крайней мере, дворянскую собственность»2. Речь идет о работе губернского комитета по подготовке крестьянской реформы. Для того чтобы облегчить работу тех из его членов, которых Н.А. Безобразов называл «твердыми и умными», то есть разделяющими его точку зрения, он сделал разбор оснований, предложенных Министерством внутренних дел для деятельности губернских комитетов по улучшению быта помещичьих крестьян. Эти правила Н.А. Безобразов называет «просто невыносимыми» и предлагает петербургскому комитету не руководствоваться ими в своей работе3. «Надо прямехонько отрицать возможность составления какого бы то ни было положения на этих началах. Знаю, что трудно. Но с здравым суждением, откровенностью и твердостью достичь можно многого»4.
Разбор правил, предложенных Министерством внутренних дел, составленный Н.А. Безобразовым, прилагался к письму А.П. Платонову. Последовательный защитник крепостного права, Н.А. Безобразов предлагает не смешивать два понятия: «крепостное состояние» и «укрепление крестьян к земле». Первое он связывает с документами, так называемыми «крепостями», второе, по мнению Н.А. Безобразова, присутствует исключительно в разговорном языке и в публицистике некоторых авторов5. Этим способом, по сути, подменой понятий, Н.А. Безобразов пытается поставить под сомнение сами основания предполагаемой правительством крестьянской реформы.
Автор текста подчеркивает, что «мнимое укрепление крестьян к земле» и происходящее от этого «крепостное состояние» основано на ошибочном историческом взгляде и, особенно, на истолковании российских реалий «с точки зрения западных умов»6. Затем Н.А. Безобразов утверждает, что «примкновение личности к земле» противоречит общинному устройству, служащему основой народного быта, и присущей ему практике постоянного пересмотра поземельных наделов, то есть переделов земли. Он различает два вида крепостного права: вотчинное и поместное, то есть «обладание народонаселением» и собственность на землю7.
Первое, вотчинное право, состоит в «чинении суда, расправы и распорядка» среди населения. Второе – в принадлежности земли крепостному владельцу8. Запрещение крестьянам менять места своего проживания и таким образом выходить из зависимости от законной власти было утверждено государством и распространялось на казенных крестьян и даже мещан. Это своеобразная форма земского устройства, порядок внутреннего управления государством, присущий России. Если правительство сочтет его устаревшим, он будет устранен.
Язык, которым написаны замечания на правила Министерства внутренних дел, архаичен, поскольку их автор стремится апеллировать к традиции, освященной веками, всей истории взаимоотношений государства, крестьян-общинников и помещиков-землевладельцев. Подчеркивая самобытность социально-экономических установлений, присущих русской деревне, Н.А. Безобразов утверждает, что их невозможно оценивать, исходя из западного опыта и присущего ему образа мысли. Этот антизападный пассаж в аргументации выглядит тем более сомнительным, если учесть, что автор в момент написания текста проживал за границей, в Милане, откуда не спешил возвращаться на родину.
Интересным примером выражения консервативной позиции в самый канун проведения крестьянской реформы может послужить анонимное письмо помещицы, написанное 1 октября 1860 г. Желая, чтобы её голос был услышан властями, она по какой-то причине адресовала его главноначальствующему над почтовым департаментом1.
Помещица пишет о том, что в ожидании неминуемых перемен, полные страха владельцы имений лишились возможности заниматься благоустройством своих хозяйств. Корень зла предстоящих преобразований она видит в том, что авторы реформы – петербургские чиновники, которые слишком далеки от подлинных обстоятельств российской жизни. «Теперь, когда вопрос, от решения которого должна определиться будущая судьба России, волнует умы и возбуждает в сердцах разнообразные чувства, позволено каждому, даже женщине, сказать свое слово»2.
Автор письма не оправдывает крепостничество, которое называет рабством, но считает его следствием еще не созревшей гражданственности, отрицает готовность к свободе в народной среде. «Если свобода была бы потребностью народа, то отчего опасаются бедствий и волнений со стороны его, которого хотят осчастливить»3.
Помещица раскрывает мотивацию значительного числа сторонников освобождения: «Многие хотят щеголять благородством своих чувств и прикидываются ревностными эмансипаторами (обыкновенно люди, которые ничего не имеют). Многие проповедывают освобождение потому, что им совестно перед Европой за наше рабство»4. Это замечание представляется весьма верным наблюдением.
Анализ политического языка консервативного дворянства периода крестьянской реформы позволяет сделать вывод о том, что он различается в зависимости от того, направлено ли конкретное высказывание вовне либо предназначено для восприятия в пределах круга единомышленников. Подчеркнутая архаичность языка присутствует в случае коммуникации с представителями власти, широкой общественности и практически отсутствует во внутренней переписке дворян-консерваторов. Эта архаичность может выступать своеобразным маркером консервативного дворянства, представителей исторической традиции, считавших себя «солью земли русской», опорой трона. Во внутреннем круге главной задачей для дворян-консерваторов называется защита своей собственности.
Интересен феномен мимикрии, использования аргументов либерального дискурса со стороны защитников консервативной идеи. Дворяне-консерваторы, хорошо знакомые с либеральными идеями, средствами их выражения в силу своей образованности, достаточно умело могут играть на поле соперника, отстаивая свои собственные интересы.
Таким образом, изучение политического языка в рамках исторического исследования позволяет лучше понять как содержание политических идей, представленных в ту или иную эпоху, так и стратегии, используемые ключевыми акторами в процессе политической борьбы и коммуникации.
Список литературы Политический язык консервативного дворянства периода крестьянской реформы
- Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. 2002. № 3. С. 32–43.
- Кавелин К.Д. Дворянство и освобождение крестьян Берлин, 1862. 68 с.
- Котов А.Э. «Ненадежный друг»: А.С. Суворин и салон Богдановичей в конце XIX века // Российская история. 2020. №1. С. 107–114. https://doi.org/10.31857/S086956870008278-6.
- Котов А.Э. Русский политический предмодерн: забытые «консерваторы» второй половины XIX века. СПб., 2019. 282 с.
- Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010. 374 с.
- Полунов А.Ю., Лукашин А.В. Консерваторы XIX века о будущем пореформенной России (социально-политические аспекты развития) // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 40. С. 225–236.
- Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика / под ред. В.Я. Гросула. М., 2000. 439 с.
- Семенов Н.П. Наше дворянство. СПб., 1898. 85 с.
- Черникова Н.В. Портрет на фоне эпохи: князь Владимир Петрович Мещерский. М., 2017. 479 с.
- Шульгин В.Н. Русский свободный консерватизм первой половины XIX века. СПб., 2009. 496 с.
- Ярмонкин В. В. Задача дворянства. СПб. 1895.