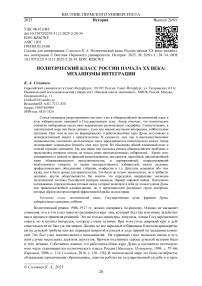Политический класс России начала XX века: механизмы интеграции
Автор: Соловьев К.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Пространства интеграции в Российской империи: разнообразие институтов и производство лояльности
Статья в выпуске: 2 (69), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рекрутированию местных элит в общероссийский политический класс в ходе избирательных кампаний в Государственную думу. Автор отмечает, что политические симпатии выборщиков имели явно выраженную региональную специфику. Соответственно, в значительный мере они были связаны с теми или иными местными интересами, лоббистскими группами. При этом из них же формировалось и работоспособное ядро Думы, вступившее в непосредственный диалог с правительством. В сущности, оно, как и высокопоставленное чиновничество, составляло неотъемлемую часть зарождавшегося политического класса. Автор подчеркивает социальную близость этих двух групп. Их объединял общий жизненный опыт и схожий горизонт ожиданий. Так или иначе они пытались решать общероссийские проблемы и представлять интересы отнюдь не только своих непосредственных избирателей. Кроме того, одновременно в каждой из фракций реализовывалось два проекта: партийный, предполагавший идею общенационального представительства, и корпоративный, подразумевавший необходимость говорить от имени непосредственных избирателей, своего сословия, профессионального объединения, губернии, конфессии и т.д. Депутаты осваивали оба этих языка, чем и были ценны для правительства. Это были не только законодатели, но и лоббисты цензовых кругов общественности. Во многом это определяло направление эволюции политической системы Российской империи накануне Первой мировой войны. Постепенно складывались горизонтальные сетевые связи, которые включали в себя не только членов Думы или правительственной администрации, но и представителей различных групп интересов, которые обрели инструментарий эффективной борьбы за свои права.
Политический класс, Государственная дума, фракции Думы, избирательные кампании, лоббизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147250808
IDR: 147250808 | УДК: 94(47).084 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-2-28-34
Текст научной статьи Политический класс России начала XX века: механизмы интеграции
нах местного самоуправления. По этим характеристикам они мало отличались от высшей бюрократии, с которой им предстояло работать. Политический класс складывался из людей социально близких, которым было не так трудно друг с другом договариваться.
При этом его представители говорили от имени не только столиц или Центральной России. Так или иначе был слышен голос разных регионов страны, но, правда, в разной степени [ Соловьев , 2024, с. 60–65].
Правые скамьи Таврического дворца преимущественно занимали делегаты западных окраин. В ходе выборов в III Государственную думу только семь губерний Центральной России избрали правых депутатов. Чуть менее половины правых думцев представляли шесть западных губерний. Еще восемь правых были избраны в южных губерниях Российской империи (в Бессарабии, Области войска Донского, Екатеринославской, Харьковской, Херсонской губерниях). Националисты и правые октябристы пользовались симпатиями избирателей девяти западных губерний. В итоге их делегаты составляли 43 % соответствующих фракций. Едва ли удивительно, что на западных окраинах империи были самые многолюдные отделения «Союза русского народа». Киев был своего рода столицей русского национализма. Именно там и располагался Всероссийский национальный клуб.
В III Думе правые голоса звучали громко, но октябристские – заметно громче. «Союз 17 октября» преимущественно полагался на Центральную Россию, которая давала приблизительно 60 % фракции. В Западном крае октябристы большой популярностью не пользовались: там было избрано лишь три члена «Союза 17 октября». Столько же было делегировано Астраханской губернией. Юг России избрал немало октябристов – около 30 % фракции. Еще семь членов «Союза 17 октября» представляли остзейские губернии.
В первую очередь октябристы делегировались Земской Россией – органами самоуправления. В них числилось около половины всех депутатов, а именно 229 человек из 485 (т.е. около 47 %). Это усредненные показатели, в некоторых случаях они были заметно выше. Среди прогрессистов земцев было 52 %, среди правых октябристов – около 55 %, три четверти октябристов, около 90 % независимых националистов [ Демин , 2013, с. 163]. В IV Думе местное самоуправление было представлено еще лучше. 25 кадетов из 49 служили в земствах и городах (т.е. около половины), приблизительно то же можно сказать о половине правых или же около 60 % прогрессистов. Приблизительно тот же процент земцев был в русской национальной фракции и группе националистов-прогрессистов. Более 80 % депутатов фракции центра, около 90 % земцев-октябристов и свыше 90 % группы «Союза 17 октября» трудились в органах самоуправления [Там же, c. 164].
«Земское лицо» Государственной думы ни для кого не было секретом [ Brainerd , 1979, р. 86–88]. Напротив, депутаты часто это подчеркивали и отказывались понимать, когда кто-либо корил их за прежнюю деятельность в органах самоуправления. Работа в земстве – это важный опыт большой каждодневной службы – в преддверии работы еще большего масштаба и большей ответственности, поскольку следует знать, как подступиться к закону, отдавая себе отчет, как он может отозваться на жизни обывателя [ Ковалевский , 1912, с. 55–56]. И все же у земства была неоднозначная репутация. Кто-то из гласных без устали трудился в земских собраниях, а кто-то постоянно отсутствовал – и последних, разумеется, было существенно больше. Абсентеизм в органах местного самоуправления был неизлечимым недугом. В июне 1908 г. об этом писал даже октябрист Н. В. Савич, знакомый с деятельностью земства отнюдь не понаслышке. В его устах упоминание «земской природы» депутатской деятельности не звучало как комплимент (Представительные учреждения…, 2014, с. 108).
За время работы III Думы в правительственных кругах перестали доверять октябристам, в особенности левому крылу партии. Фигура А. И. Гучкова вызывала сильнейшее раздражение у императора и его ближайшего окружения. В ходе выборов в IV Думу правительство предпринимало экстраординарные усилия, чтобы сократить представительство «Союза 17 октября» в Таврическом дворце. Однако решить поставленную задачу можно было лишь частично. У Министерства внутренних дел не хватало инструментария для тотального контроля над выборами. Это объясняется многими причинами: электоральной процедурой, дефицитом информации о выборщиках, слабостью губернской администрации, оппозиционными настроениями низших звеньев бюрократии. Однако в данном случае следовало выделить другое: специфика выборов той или иной губернии была столь очевидной, что ее невозможно было свести на нет решениями центральной власти. Так, во многих губерниях авторитет октябристов был непоколебим. Например, в Казанской губернии им удалось провести в выборщики даже лидеров левого крыла «Союза 17 октября» А. Н. Барятинского и И. В. Годнева (ГАРФ. Ф. 102. IV д-во. 1912. Д. 130. Ч. 24. Л. 20). Сам расклад в Воронежском губернском избирательном собрании был таков, что октябристам принадлежал «контрольный пакет». Правым приходилось за них голосовать, дабы не допустить победы кадетов (Там же. Л. 66). И это был отнюдь не только «воронежский случай». По сведениям кадета А. М. Колюбакина, подобным образом дело обстояло еще в 18 губерниях. Там «Союз 17 октября» не мог рассчитывать на бесспорное большинство и тем не менее гарантированно побеждал на выборах (Протоколы Центрального Комитета…, 1997, с. 81–82).
Во многих регионах империи устойчивыми симпатиями пользовались представители оппозиции. За них голосовали Центр России (в особенности столицы), Поволжье, Сибирь. 12 депутатов (около 10 % совокупной численности левых фракций) были делегированы югом России. Оппозиция практически безраздельно господствовала на выборах в Пермской, Уфимской, Оренбургской губерниях. Она могла положиться на эстонцев и латышей в остзейских губерниях, евреев западных окраин ( Герасимов , 1913, с. 124). Левые кресла Таврического дворца занимали представители Закавказья, а также все депутаты Сибири (61 % составляли кадеты и прогрессисты, а 39 % социалисты). Привислинские губернии послали в Думу 14 депутатов, из них 11 состояли в Польском коло (Там же, с. 126).
Обычно партии знали своего избирателя. Кадеты могли надеяться на горожанина. Это доказывали результаты всех выборов в Думу и даже в Учредительное собрание [ Соловьев , 2015, с. 179–187]. Менялся не избиратель, а избирательный закон. В крестьянской стране кадетам сложно было рассчитывать на поддержку большинства населения, зато они могли положиться на голоса значительной части городских обывателей. Цензовые ограничения, вызывавшие возмущение у конституционных демократов, в действительности были выгодны партии. Лишь непропорциональное представительство города обеспечивало кадетам заметный вес в Думе.
Довольно характерно распределение политических симпатий среди городского избирателя на 1906 г. (таблица) [ Дан , 1910, с. 134].
Таблица
Политические предпочтения среди городского избирателя, 1906 г.
|
Регион |
Правые, % |
Кадеты и прогрессисты, % |
Левые, % |
Беспартийные, % |
|
Север |
26 |
60 |
13 |
1 |
|
Нечерноземье |
32 |
57 |
11 |
‒ |
|
Землевладельческий центр |
22 |
65 |
9 |
4 |
|
Юг |
6 |
62 |
28 |
4 |
|
Северо-Запад |
16 |
51 |
31 |
2 |
|
Поволжье |
13 |
35 |
52 |
‒ |
|
Урал |
8 |
40 |
52 |
‒ |
|
Сибирь и Средняя Азия |
7 |
15 |
75 |
3 |
|
Кавказ |
3 |
13 |
77 |
7 |
Иными словами, в большинстве случаев кадеты довольно уверенно побеждали в городах на думских выборах. По крайней мере об этом можно говорить применительно к наиболее населенным регионам империи. Их позиции были слабее на окраинах: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии.
В некоторых губерниях имели место уникальные особенности, существенно влиявшие на исход выборов. Это порой так запутывало расклад сил, что результат избирательной кампании становился непредсказуемым. В Бессарабской губернии тон задавала партия Центра. За ней скрывалось семейство Крупенских, которое безраздельно доминировало в Бессарабии. Там, на западной окраине империи, оно практически всегда добивалось избрания или утверждения в должности своих ставленников. Формально партия Центра располагалась на правом фланге Думы. В действительности это утверждение, по крайней мере, не вполне корректно. К этой группе принадлежали лица разных взглядов, порой даже весьма либеральных. Их объединяла преданность патронам, которые маневрировали, договаривались с правительством, октябристскими лидерами (ГАРФ. Ф. 102. IV д-во. 1912. Д. 130. Ч. 7. Л. 1). «Центристы» часто голосовали вместе с думским центром. В «Союзе русского народа» к ним относились без всякой симпатии и прозвали «октябристскими подголосками» ( [Куманин Л.К.] , 1999, с. 11). Помимо всего прочего, эта неприязнь объяснялась ожесточенной конкуренцией в Бессарабии между Крупен-скими и В. М. Пуришкевичем, которому приходилось рассчитывать на союз с «земской партией» (фактически молдавских националистов) (ГАРФ. Ф. 102. IV д-во. 1912. Д. 130. Ч. 7. Л. 1 об.). Этот конфликт не могли разрешить ни губернатор (Там же. Л. 3 об.), ни архиепископ Серафим, который, правда, не пользовался любовью местных священнослужителей (Там же. Л. 2).
Курская губерния представляла собой своеобразную вотчину Н. Е. Маркова, которого побаивался и сам губернатор даже тогда, когда им был решительный и своевольный Н. П. Муратов (1912–1915). По его меткому замечанию, курский «зубр» мог уверенно про себя говорить: «Губернское избирательное собрание – это я». Губернский предводитель В. Ф. Доррер, уездные предводители дворянства послушно плелись за лидером думских правых. И в земском собрании Маркову никто возразить не мог. Со временем он чувствовал себя все увереннее, по-хозяйски вмешивался работу губернской канцелярии, зачастую определял кандидатуры будущих депутатов (РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 26. Л. 263 об.–264). В Смоленске же прислушивались к Сычевскому уездному предводителю Н. А. Хомякову [ Шарапов , 2008, с. 620–622, 626– 627]. В Волынской губернии многое зависело от архимандрита Почаевской лавры Виталия (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 557. Л. 141). Остзейские бароны вполне предсказуемо определяли исход голосования в Курляндской губернии. Они брали не численностью, а способностью мобилизовывать свои относительно скромные силы (ГАРФ. Ф. 102. IV д-во. 1912. Д. 130. Ч. 33. Л. 1). В Оренбургской губернии всем партиям приходилось так или иначе считаться с позицией мусульманского населения, которое чаще всего предпочитало голосовать за кадетов (ГАРФ. Ф. 115. Оп. 1. Д. 54. Л. 18). Немецкие колонисты Херсонской губернии, как, впрочем, и везде, преимущественно голосовали за октябристов (Съезды и конференции…, 2000, с. 390). В Одессе же кадеты были вправе рассчитывать на победу по 2-й городской курии в силу симпатий еврейского избирателя (ГАРФ. Ф. 115. Оп. 1. Д. 54. Л. 9). Купцы А. И. Соколов и В. М. Сурожников во многом определяли исход выборов в Самарской губернии. Они рассчитывали видеть в Думе кадетов и прогрессистов, а не влиятельных в Поволжье октябристов (Представительные учреждения…, 2014, c. 267–268). Их союзником или даже «попутчиком» был местный губернатор, который в меру своих сил боролся с «Союзом 17 октября», тем самым (невольно, конечно) оказывая поддержку его «соседям слева» (РГИА. Ф. 669. Оп. 1. Д. 11. Л. 7).
Так или иначе в Думе отстаивались региональные, национальные, конфессиональные интересы. В начале 1909 г. конституционные демократы проводили совещания с московской еврейской общиной, обсуждая перспективы законотворческой деятельности фракции (Письмо Н.Н. Щепкина П.Н. Милюкову. 17.01.1909). Весной 1911 г. руководство «Союза 17 октября» консультировалось с немецкими колонистами относительно проекта об ограничении прав их соплеменников на территории правобережной Украины (ГАРФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 873. Л. 4 об.–5). Приблизительно через год, в феврале 1912 г., уже прогрессисты вели переговоры с немецкой столичной общиной, которая традиционно включалась в электоральную базу октябристов (Представительные учреждения…, 2014, c. 222–223). В ноябре 1913 г. конституционные демократы и прогрессисты провели совещание с представителями армянской общественности. Обсуждались трагические события в Османской империи (геноцид армян) и отношение России к ним (ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 4262. Л. 5). В 1913 г. в повестке дня стоял холмский вопрос. В его решении фракция националистов тесно сотрудничала с Советом братства местной епархии, во главе которой стоял депутат III Думы епископ Евлогий (Представительные учреждения…, 2014, c. 339). Таких примеров можно приводить довольно много.
В Государственной думе уживалось два альтернативных проекта: партийный и корпоративный. В той или иной пропорции они присутствовали во всех фракциях. Партийное начало подразумевало политическую консолидацию, амбицию говорить от имени всех, «сословное», корпоративное представительство – организационное «рассыпание», надежду защитить своих.
Корпоративный проект доминировал. При таких обстоятельствах фракционные «хлысты», назначенные следить за парламентской дисциплиной, в сущности, были бесполезны. Работали иные механизмы координации депутатских усилий, а на практике – самоорганизации. Во-первых, этому способствовала общность социального опыта ключевых (и довольно немногочисленных) участников законотворческого процесса [ Соловьев , 2016, с. 126–136]. Во-вторых, их путь в Думу не предусматривал партийного догматизма. Им было сравнительно нетрудно договариваться друг с другом. Кроме того, очень часто члены разных объединений представляли одну и ту же корпорацию (например, земцев). Они с легкостью преодолевали фракционные барьеры. Это позволяло формировать большинство не вокруг институционализированных центров, а вокруг интересов, чем занимались и сами депутаты, и фракционные лидеры, и представители президиума Думы, и члены правительства. Такое большинство не могло быть стабильным. Оно складывалось ситуативно, от случаю к случаю. Однако в итоге возникали привычки, более и менее устойчивые думские алгоритмы законотворчества. Из этого, собственно, и «ткалась» депутатская сетевая организация, обеспечивавшая координацию усилий народных избранников. Хотя бы в силу этой причины региональные группы относительно легко интегрировались в нарождавшийся политический класс.