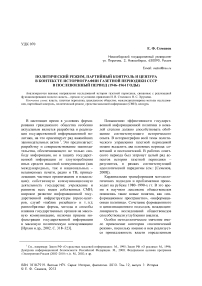Политический режим, партийный контроль и цензура в контексте историографии газетной периодики СССР в послевоенный период (1946–1964 годы)
Автор: Семенов Евгений Федорович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Анализируются важные направления исследований истории газетной периодики, связанные с реализацией функционирования модели «власть – пресса» вусловияхправления И. В. Сталина и Н. С. Хрущева.
Власть, газетная периодика, гражданское общество, междисциплинарные методы исследования, партийный контроль, политический режим, цензура, средства массовой информации
Короткий адрес: https://sciup.org/147218684
IDR: 147218684 | УДК: 070
Текст научной статьи Политический режим, партийный контроль и цензура в контексте историографии газетной периодики СССР в послевоенный период (1946–1964 годы)
В настоящее время в условиях формирования гражданского общества особенно актуальным является разработка и реализация государственной информационной политики, на что ориентирует ряд важнейших законодательных актов 1. Это предполагает: разработку и совершенствование законодательства, обеспечивающего не только свободу информации, но и защиту государственной информации от злоупотребления иных средств массовой коммуникации (как международных, так и национальных – независимых печати, радио и ТВ, принадлежащих частным организациям и владельцам); собственную коммуникационную деятельность государства: учреждение и развитие всех видов собственных СМИ; широкое развитие информационной государственной инфраструктуры (пресс-центров, служб «паблик рилейшнз» и т. п.); разнообразные формы, методы и способы влияния государственных органов на массовую коммуникацию, включая приемы инфильтрации государственной информации в массовую политическую коммуникацию [Ирхин и др., 2002. С. 318–323].
Повышению эффективности государственной информационной политики в немалой степени должно способствовать обобщение соответствующего исторического опыта. В историографии всей темы политического управления газетной периодикой можно выделить два основных периода: советский и постсоветский. В работах советского периода был затронут целый ряд аспектов истории газетной периодики – разумеется, в рамках соответствующей идеологической парадигмы (см.: [Семенов, 2008]).
Кардинальная трансформация методологических подходов и проблематики происходит на рубеже 1980–1990-х гг. В это время в научном лексиконе обществоведов появились такие новые понятия, как «информационное пространство», «информационная политика». Сочетание формационного и цивилизационного подходов, междисциплинарность исследований обществоведов способствовали углублению анализа.
Особое методологическое значение имело применение категории «политический режим», поскольку именно в нем реализуется принадлежность власти определенным субъектам политических действий, способы владения и удержания ее, а также механизм воздействия на людей [Матузов, Малько, 2003. С. 76–77].
При характеристике системы политического контроля над прессой следует прежде всего иметь в виду, что в сложившейся политической системе партийная номенклатура обладала монопольным правом на распространение информации. Эти функции выполняли Управление агитации и пропаганды ЦК партии, отделы пропаганды и бюро местных партийных комитетов, ТАСС и многие другие структуры.
Данная система осуществляла идеологический контроль за издательской и редакционной деятельностью, за информационным потоком, рассылая строго дозированную информацию по актуальным вопросам внутренней и международной жизни. Эти структуры вели и строгий кадровый подбор, расстановку и воспитание руководителей печати, рядовых газетчиков. Даже формирование направлений критики для прессы шло по прямому указанию вышестоящих органов. Нередко они же определяли формы и жанры ее публикаций.
Этот механизм политического контроля четко прослеживается в ряде руководящих документов рассматриваемого периода, например в постановлениях ЦК ВКП(б) / КПСС: «О мерах по улучшению областных газет “Молот”(Ростов-на-Дону), “Волжская коммуна” (Куйбышев) и “Курская правда”» (30.07.1946), «О мерах по улучшению ведения газеты “Гудок”» (31.08.1951), «О работе газеты “Советская Чувашия”» (27.03.1954), «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» (09.01.1960) 2 и др.
Такого рода документы представляли собой однотипные директивы, требовавшие поиска «глубинных тем, способных поднять народнохозяйственное строительство и социальное обновление на новую ступень». При этом в работе многих печатных органов отмечались такие негативные моменты, как «редакционный субъективизм», «обход их “острыхˮ углов», диспропорции в публикуемых материалах разных отделов и т. п.
Очевидно, что недостатки в работе печати определялись прежде всего существовавшей системой жесткой бюрократической опеки. Несмотря на то, что каждый печатный орган анонсировался как орган соответствующего партийного комитета и государственного института (совета, профсоюза, комитета ВЛКСМ, производственного коллектива), реально они были «оружием партии». Любой подготовленный материал проходил прежде всего партийную цензуру (обкома – горкома – райкома – парткома) либо планировался заранее.
Другой стороной политического контроля над газетной периодикой было то, что практически весь материал по вопросам внешней политики на местах перепечатывался из центральных газет или же «рассылки» ТАСС. Такая же схема была характерна и для основной массы публикаций по проблемам теории и практики партийного, советского и хозяйственного строительства.
Обращаясь к историографии темы, отметим ее недостаточное отражение в исторических исследованиях. Система политического контроля в советскую эпоху специально рассматривается в ряде публикаций В. С. Измозика, в том числе в его монографии [1995]. Однако следует иметь в виду, что эта небольшая книга носит обзорный характер и в минимальной степени затрагивает аспект политического контроля над прессой в интересующий нас период.
С середины 1990-х гг. по настоящее время вышли десятки статей о цензуре советского периода. При этом наиболее существенным вкладом в исследование этой проблематики в масштабах всей страны (в том числе и послевоенного двадцатилетия) стали докторская диссертация Т. М. Горяевой (2000 г.) и связанные с ней публикации, а также ее монография [2009]. Названная работа издана в серии «Культура и власть от Сталина до Горбачева: Исследования». Можно сказать, что здесь впервые дана обобщающая картина развития цензуры советского периода как важнейшего сегмента системы политического контроля. Интересующий нас период освещается в гл. IV «Политическая цензура в 1940-е–1991 гг.» в разделах «Особенности политической цензуры в годы Второй мировой войны и послевоенной конфронтации (1941–1956 гг.)» и «Модернизация системы политической цензуры (1956–1968 гг.)». В книге показано все многообразие всеобъемлющей политической цензуры советского типа, форм и методов идеологического и политического контроля, который осущест- влялся партийно-государственными органами и институтами цензуры.
Один из важных выводов рассматриваемой работы заключается в том, что изменения в общественной жизни страны в процессе критики «культа личности Сталина» в минимальной степени коснулись важнейшего инструмента политического контроля – цензуры. Автор отмечает: «Новая общественно-политическая ситуация, сложившаяся после XX съезда партии, и недолгая “отте-пельˮ в жизни страны практически не отразились на государственной системе цензуры, не ослабили ее тисков. Напротив, этот этап ознаменовался очередным витком упорядочения взаимодействия партии в целом и ее идеологических институтов с органами цензуры. <…> На излете хрущевской “оттепели” механизм контроля и подавления окончательно сложился в мощную и безотказную силу, сплавленную из трех сил – КПСС. КГБ и Главлита, действовавших слаженно и в тесном взаимодействии, как своего рода сообщающиеся сосуды, попав в которые выбраться было невозможно» [Горяева, 2009. С. 311–312, 321].
Однако следует иметь в виду, что при характеристике системы политического контроля в рассматриваемой работе недостаточное внимание уделяется такому его объекту, как периодическая печать. Некоторые конкретные данные по этому поводу приводятся применительно к «позднему сталинизму». В частности, отмечается появление 8 сентября 1951 г. секретного циркуляра Главлита «Об усилении политикоидеологического контроля произведений печати». В связи с этим подчеркнуто: «В качестве идеологической платформы на новом этапе служила редакционная статья в “Правде” “Против идеологических извращений в литературе”. В ней были изложены “неотложные задачи цензуры в области усиления политико-идеологического контроля произведений печати и искусства» [Там же. С. 297]. Далее в основном освещается политический контроль в отношении литературы и искусства, пресса же не находится в зоне приоритетного внимания автора. Оценивая концептуальные позиции автора, вряд ли можно в полной мере согласиться с тем, что общественно-политические изменения периода «оттепели» не затронули цензуры. Скорее следует признать более убедительной формулировку рассматриваемой работы о том, что эти изменения имели место, но цензуры они коснулись в «минимальной степени».
Некоторые значимые положения о политическом контроле в сфере периодики можно обнаружить в обобщающих работах о периоде «позднего сталинизма». Так, в наиболее заметном труде об общественнополитической жизни данного периода – монографии О. В. Хлевнюка и Й. Горлицко-го эта тема затрагивается при характеристике идеологической кампании, развернутой в связи с известным «делом врачей». Авторы сообщают: «Сталин дал указание Шепилову написать передовую для “Правды”. Получив текст от Шепилова 10 января (1953 г. – Е. С .), Сталин серьезно отредактировал его. Поправки Сталина, а также сам текст статьи <…> показывали, что у вождя сохранилась приверженность к формулировкам периода террора 1930-х гг. Такие ярлыки, как “враги народа”, “шайка врачей-отравителей”, “террористы”, “лазутчики” переполняли материал. <…> Статья призывала к бдительности и напоминала, что в стране существует большое количество “скрытых врагов”, поддерживаемых империалистическим миром. <…> Публикация передовой и сообщения ТАСС на страницах газет 13 января 1953 г. была сигналом для значительной идеологической кампании. В стране росли антисемитские настроения и истерия борьбы с “врагом”» [Хлевнюк, Горлицкий, 2011. С. 211–212].
Роль печати в период кампании борьбы с «космополитизмом» наиболее широко раскрывается в фундаментальных монографиях Г. В. Костырченко [2001; 2010]. Так, в первой из них значительное место это занимает в гл. V «Антисемитская агония диктатора», где в разделе «Удаление евреев из культурно-идеологической сферы» имеется рубрика «Масс-медиа». Здесь, в частности, отмечается: «В области идеологии (редакциях газет, журналов, издательствах, учреждениях культуры и искусства, гуманитарных академических институтах и т. п.) антиеврейский остракизм стал очевиден уже в ходе антикосмополитической пропагандистской кампании начала 1949 г. В наибольшей степени, по вполне очевидным причинам, он проявился в редакции “Правды”. <…> То, что произошло в редакции главного пропагандистского рупора партии, потом многократно повторялось с некоторыми вариациями в других газетах и журналах» [Костырченко, 2001. С. 521–522, 526]. Во второй монографии приведенные положения в основном воспроизведены в гл. IV «Универсализация чистки (1949–1953)» в разделе «Удаление евреев из сферы идеологии».
Отмеченные в книге Т. Ф. Горяевой оценки динамики политического контроля в постсталинский период подтверждаются материалом, содержащимся в ряде исследований по истории «оттепели». В первую очередь здесь следует назвать монографию Ю. В. Аксютина – наиболее фундаментальный труд об общественно-политической жизни хрущевского периода. В ней, в частности, отмечается роль печати в борьбе против инакомыслия, которое, как справедливо указывает названный автор, прослеживалось прежде всего в писательской среде. Характеризуя развертывание кампании против «ревизионизма» и «очернительства», Ю. В. Аксютин пишет: «25 мая (1957 г. – Е. С .) в передовой статье возглавляемой Кочетовым “Литературной газеты” члены редколлегии “Литературной Москвы” Казакевич, Алигер, Каверин и Рудный были названы группой, “стоящей на позиции нигилизма и ревизионизма”. В печати началась кампания против очернительства советской действительности. Брожение умов после XX съезда КПСС было обозначено как праворевизионистские шатания» [2004. С. 222].
Сохранение жесткого политического контроля над печатью в постсталинский период можно проследить не только в ходе борьбы с инакомыслием, но и на примере ряда других характерных акций. Одним из ярких примеров может служить идеологическая подготовка такого важнейшего новшества, как широкое привлечение общественности к охране правопорядка посредством создания «добровольных народных дружин». Ход событий здесь выглядел следующим образом: «Первый опыт передачи части функций органов милиции общественности позволил партийным структурам “аргументировано” перейти к обработке массового сознания общества с помощью центральной печати. Так, в конце декабря 1958 г. в “Правде” по давней традиции был опубликован обзор писем читателей по проблемам борьбы с преступностью. Согласно обзору, многие авторы упрекали органы милиции в том, что недостаточно энергично ведут борьбу с преступностью. В других письмах напрямую говорилось о пассивности некоторых органов милиции. Составители обзора подкрепили данную публикацию ссылкой на выступление Н. С. Хрущева на XX съезде компартии, в котором он призывал привлечь к борьбе с преступностью широкие массы трудящихся. В заключение указывалось, что читатели “Правды” выражают твердую уверенность в том, что совместными усилиями общественности и правоохранительных органов уголовные преступления будут искоренены <…>. В январе 1959 г. в “Литературной газете” с аналогичным предложением выступил известный писатель В. Солоухин». <….> После основательной подготовки массового сознания трудящихся данный подход к проблемам борьбы с преступностью и был “конституирован” XXI съездом КПСС» [Полиция и милиция…, 1995. С. 265].
Определенное внимание теме политического контроля над прессой уделено в ряде работ регионального характера, особенно в диссертациях Н. А. Володиной [2010] и Е. В. Кочетовой [2006]. Эпизодическое обращение к этому аспекту жизнедеятельности западносибирских СМИ можно найти в монографиях С. Г. Сизова [2001; 2003], А. Б. Коновалова [2004; 2005; 2006], Е. С. Гениной [2009].
Из числа работ регионального характера, раскрывающих интересующую нас тему на сибирском материале, наиболее заметной является монография С. В. Зяблинцевой [2011]. В гл. III фигурирует раздел о периодической печати, деятельность которой рассматривается в контексте политического контроля. Ценной стороной названной монографии является рассмотрение долговременных тенденций этого сегмента СМИ в широких хронологических рамках (1920 – середина 1950-х гг.). Однако это имеет и свою оборотную сторону – вынужденную эскизность изложения в силу «необъятности» хронологических рамок. Ввиду этого интересующему нас периоду «послевоенного сталинизма» и «оттепели» отведено лишь около 10 страниц.
В заключение надо сказать, что сегодня можно констатировать устойчивую тенденцию в исследовании газетной периодики (как и всех СМИ). Историографический анализ публикаций и диссертаций показывает, что отражение в исторических, политологических, юридических и других отрас- левых гуманитарных исследованиях разных аспектов предложенной в данной статье темы пока еще не исчерпывает всего ее многообразия.
POLITICAL REGIME, PARTY CONTROL AND CENSORSHIP
IN THE CONTEXT OF HISTORIOGRAPHY OF NEWSPAPER PERIODICALS IN THE USSR
IN THE POSTWAR PERIOD (1946–1964)
Список литературы Политический режим, партийный контроль и цензура в контексте историографии газетной периодики СССР в послевоенный период (1946–1964 годы)
- Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М., 2004. 488 с.
- Володина Н. А. Становление и развитие советской системы политического контроля в 1917-1953 гг. (На примере Среднего Поволжья): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2010. 35 c.
- Генина Е. С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Сибири (1949-1953 гг.). Кемерово, 2009. 255 с.
- Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. М., 2009. 408 с.
- Зяблинцева С. В. Социокультурный потенциал Западной Сибири и практика его реализации (1920 -середина 1950-х гг.). Кемерово, 2011. 472 с.
- Измозик В. С. Глаза и уши режима: государственный политический контроль за населением советской России. СПб., 1995. 164 с.
- Ирхин Ю. В., Зотов В. Д., Зотова Л. В. Политология: Учебник. М., 2002. 375 с.
- Коновалов А.Б. История Кемеровской области в биографиях партийных руководителей (1943-1991). Кемерово, 2004. 491 с.
- Коновалов А. Б. Партийная номенклатура Кузбасса в годы «послевоенного сталинизма» и «оттепели» (1945-1964). Кемерово, 2005. 311 с.
- Коновалов А. Б. Партийная номенклатура Сибири в системе региональной власти (1945-1991). Кемерово, 2006. 635 с.
- Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М., 2001. 779 с.
- Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов»: власть и еврейская интеллигенция в СССР. М., 2010. 415 с.
- Кочетова Е. В. Средства массовой информации и цензура в послевоенные годы: 1945-1953 (на материалах Пензенской области): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2006. 25 с.
- Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. М., 2003. 275 с.
- Полиция и милиция России: страницы истории. М., 1995. 318 с.
- Семенов Е.Ф. Партийное декретирование и идейно-политический контроль прессы: к вопросу историографии темы (1945-1964 гг.)//Вопросы истории Сибири ХХ века: Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 2008. Вып. 8. С. 118-140.
- Сизов С. Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946-1964 гг. (на материалах Западной Сибири). Омск, 2001. Ч. 1, 2.
- Сизов С. Г. Омск в годы «оттепели». Омск, 2003. 275 с.
- Хлевнюк О. В., Горлицкий Й. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры. М., 2011. 231 с.