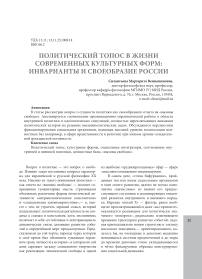Политический топос в жизни современных культурных форм: инварианты и своеобразие России
Автор: Силантьева Маргарита Вениаминовна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен вопрос о сущности политики как своеобразного ответа на «вызовы свободы». Анализируется соотношение организационно-управленческой работы в области внутренней политики и идеологических симуляций, полностью переключающих внимание политических акторов на решение внешнеполитических задач. Обсуждаются перспективы функционирования социальных организмов, имеющих высокий уровень политизации ценностных баз (например, в сфере нравственности и религии) при низком уровне созидательной гражданской активности.
Политический топос, культурные формы, социальные интеграторы, соотношение внутренней и внешней политики, ценностные базы
Короткий адрес: https://sciup.org/170174080
IDR: 170174080 | УДК: 13.11;
Текст научной статьи Политический топос в жизни современных культурных форм: инварианты и своеобразие России
Вопрос о политике — это вопрос о свободе. Именно такая постановка вопроса характерна для европейской и русской философии XX века. Именно из такого понимания политики — как ответа на «вызовы свободы» — исходит современная гуманитарная мысль, стремящаяся обосновать различные формы политической активности «антропологическими константами» и «социальными закономерностями»,— и, вместе с тем, не утратить здравый смысл, который подсказывает: политическая деятельность не сводима к схемам и константам; хотя, несомненно, включает в себя «устойчивые и повторяющиеся» динамические связи, делающие развитие событий в определённой мере предсказуемым. Предсказуемым до той черты, переход через которую в своё время был обозначен туманным термином «роль личности в истории», и которая по сей день скрывает загадку социального творчества как реализации человеческой свободы в одной из наиболее «труднопроходимых» сфер — сфере «массового поведения» индивидуумов.
В самом деле, «точка бифуркации», пройденная тем или иным социальным организмом в ходе своего развития, далеко не всегда однозначно «вычислима» из знания его предшествующего состояния и доминирующих тенденций развития внутреннего и внешнего порядка. Нередко «некий Х» — фактор, ранее вообще не просматривавшийся даже «на горизонте», оказывается решающим для политически значимого «поворота», радикально изменяющего прежнюю траекторию развития событий, задавая принципиально новую стратегию и тактику массового поведения,— ориентированного, казалось бы, на очевидные и довольно медленно меняющиеся системы предпочтений и до поры до времени довольно точно укладывающегося в чётко фиксируемые образцы конструирования социальной динамики.
Опасность радикализации отечественных политических течений по всему их спектру, от так называемых «православных активистов» до националистов, стремящихся в различных регионах страны спекулировать неоязыческой идеологией,— с одной стороны; и риск растворения политических субъектов в инертности политического недоверия и «недооформленно-сти» гражданского общества под лозунгами дискредитации самого политического действия как «неморального» — с другой. Таковы риски политической системы нашей страны, которые заставляют серьёзным образом не просто включаться в немедленное политическое действие, но внимательно и последовательно разбирать его возможные сценарии. При этом ориентируясь, в том числе, и на культурное наследие России, вбирающее в себя — едва ли не со «Слова» митрополита Илариона и уж конечно «Моления» Даниила Заточника — философскую проблематику политического действия в его социальном, культурном и нравственном измерениях.
XX век дал множество примеров, позволяющих, с одной стороны, удостовериться в неизменности алчной и себялюбивой природы человека, концентрированно выраженной в описаниях природы тоталитарной власти и через эту категорию с лёгкостью переносимой на объяснение оснований динамики функционирования социальных сообществ. С другой стороны, этот век стал временем раскрытия неожиданных черт поведения социумов, времени некумулятивных, эмерджентных прорывов и, как следствие, радикальных сомнений в точности предсказаний, основанных на буквальном прочтении социологических и философских описаний «вычислимых» закономерностей социальной динамики 1.
Не посягая на прерогативы точного социологического подхода, можно, тем не менее, проследить некоторые значимые условия социальной динамики, учитывающие её нелинейный характер и связь с глубинными интенциями личностей, составляющих социум (в свою очередь, не сводимых исключительно к «социальным атомам» либо «психическим автоматам»). Собственно, в этом и состоит суть попытки выделить «элемент свободы» в рамках жёстких зако- номерностей, которым подчинён социально-политический процесс 2.
Духовное наследие России, наряду с богатством художественной культуры и выдающимися достижениями в различных областях творчества, включает в себя, как известно, интереснейшие наработки философской мысли. Вопрос о политике и свободе — одна из постоянных тем философских поисков русских мыслителей, в частности, XX века, стремившихся разобраться с причинами и сущностью тех социальных потрясений — войн, революций и реформ, свидетелями которых они стали. В числе значимых исследований событий такого рода — философский персонализм Н. А. Бердяева, представителя русской религиозной философии, принявшего участие не только в духовных исканиях серебряного века, но также пережившего обе мировых войны, две русских революции и даже успевшего высказаться о ядерном оружии… Обращение к наследию этого философа видится актуальным ещё и потому, что «философия свободы», которую он развивал, только сегодня оказывается в полной мере услышана и востребована представителями политической и социальной мысли, стремящимися учесть тот самый «Х-фактор», не позволяющий считать социально-политические события однозначно предсказуемыми.
Кратко позиция Бердяева может быть изложена следующим образом. Общественная жизнь представляет собой проекцию личности «вовне». «Идеалистическая» формулировка данного положения не должна обманывать: человек, по Бердяеву, не просто воспроизводит сложившуюся систему отношений, «встраиваясь» в ритм современной ему культуры, личность проецирует, т.е. активно реализует, собственные (прежде всего смысловые и ценностные) установки, «пересоздавая заново» среду своего существования.
Вместе с тем, сознание личности несамодостаточно. Во-первых, оно модулируется способностью воспринимать смысловые доминанты, явно несводимые к «самостийной» спонтанной работе сознания самого по себе. Во-вторых, существенную роль в процессе «пересоздания реальности» имеет координация, взаимное соот- ветствие тех импульсов, которые исходят «от» сознания всех личностей, включённых в данный социум. Причём включённых не только «живым присутствием» в психофизическом плане, но также «присутствующих» в качестве «создателей» (или, по крайней мере, выразителей) значимых духовных явлений, становящихся источниками принятия тех или иных решений,— даже если срок их жизни на земле к тому времени уже закончился.
Итак, общество, согласно Бердяеву, «есть проекция личности». Но значит ли это, что оно может быть рассмотрено как некая «мега-личность», подобно платоновскому государству построенная по принципу составной души «социального организма»? Вопрос для Бердяева принципиальный. Прежде всего, потому, что в зависимости от ответа на него можно различить отношение к человеку как части (индивидуума) некоторого исходного целого,— либо как к самостоятельному (но не обязательно «от всего отдельному»!) целому . Понимание соборности, предложенное русским философом, позволяет уверенно утверждать, что его персонализм предпочтительно опирается на понимание личности второго рода. Сама соборность в этом случае — не «слившиеся в монолит» души, но их «созвездие». И хотя социальная проекция бытия тяготеет к упрощению отношений между людьми, часто сводя их к «объективированным» (искажённым) формам, связанным с насилием (прежде всего духовным) и следующим за ним рабством 3,— преображение социального пространства возможно и даже требуется: без такого преображения не состоится преображение личности как таковой.
Политика в определённом смысле тоже оказывается образом рабства человека у объективированного, т.е. извращённого, раздвоенного, мира. «Бесы революции» прорываются в материально-объективную проекцию личности и делают её также объективированной, связанной с насилием и жестокостью. В работе «Духи русской революции» Бердяев чётко определил «тёмный» источник революционных событий: жажда преобразований со стороны группы людей, не готовых к политической деятельности ни духовно, ни интеллектуально; и, главное, готовых безоглядно и «до конца» идти по пути аван- тюристических проекций собственных непро-работанных духовных состояний 4. Сочетание почти мистически-религиозной жертвенности с духовным невежеством, научной малограмотностью и «активной жизненной позицией» — вероятно, худшее из возможного,— действительно воплотилось в российской действительности в разрушительные катаклизмы, потрясшие в XX веке основы не только отечественной, но и мировой культуры.
Рассмотренная сквозь призму преображённого существования человека, политика предполагает «относительную правду социализма»: голодных надо кормить, и для этого необходимо приложить совершенно конкретные, в том числе и политические, усилия. Идея, согласно которой бедный «сам виноват» в своём жалком положении и потому достоин «вымирания», с точки зрения Бердяева, представляет собой один из способов существования «гордыни» буквально адского разлива: «Что это за добрые, которые спокойно согласны на погибель злых?!»,— восклицает он. Замыкание политической активности на способах навязывания непроработан-ных само-манифестаций, по Бердяеву, прямо связано с «замыканием на себя» деятельности «управляющего сословия». Это — социальный тупик, разрушительно влияющий на бытие личности во всех планах.
Ещё Аристотель, как известно, называл человека «политическим существом» 5. И прежде всего потому, что, пользуясь терминологией Бердяева, «социальная проекция» человека неотделима от коммуникативно-личностного ядра, «антропологической сущности» как сущности социальной. Именно поэтому уместно заключить, что политика как общественно-значимая деятельность ещё со времён Аристотеля входила в «опе-рационализацию» понятия «социальность»: мы настолько люди, насколько способны организовать свою жизнь в соответствии с требованиями разума, дианоэтическими (а следом и этическими) добродетелями. Именно в этом, в способности людей сделать жизнь полиса «космичной», т.е. «благоукрашенной» и «ладной», видел гениальный ученик Платона их свободу. Ведь именно свобода, в своё время описанная Платоном как хроническая неспособность человека (и, как следствие, «макрочеловека» — общественного целого 6) автоматически соответствовать своей идее — в отличие от всех остальных «вещей»,— и становится основанием необходимости управления; наличия политического усилия и политической воли. Так же, как по Аристотелю отсутствие только у человека своего собственного гарантированного извне «топос ноэтос» делает связь человека и его формальной причины (сущности) опосредованной причиной целевой и причиной движущей лишь при наличии собственного решения по поводу «разрешения себе» движения к той или иной цели. Именно в этом, по Аристотелю, основание морали, которая в случае «экзистенциального автоматизма» была бы просто не нужна. В этом же — в негарантирован-ности бытия человека, только теперь уже в рамках сообществ,— необходимость политики. Напомним: в отличие от Платона, Аристотель не считает государство «макрочеловеком»: для него оно представляет собой констелляцию отдельных личностей (в современном понимании данного термина!) и когерентную реализацию их резонансной свободы, переводящей неопределённость — в определённость разумно-предпочтительного типа. Оговоримся: при всей спорности употребления понятия «личность» в данном контексте, оно, тем не менее, имеет право на существование, поскольку соответствует трактовке «свободного лица, неизбежно находящегося в системе сложных и многоуровневых социальных связей».
Все эти очевидные вещи не стоило бы повторять, если бы не странная ситуация, сложившаяся в русской культуре, где участие в политике (как и работа, основанная на утверждении исполнения законности) связано в народном сознании с явными негативными характеристиками (прежде всего, этического плана). С другой стороны, уход от политических вопросов и уклонение от участия в политике, «аполитич- ность»,— по крайней мере за последние 60 лет — считались разумным и одобряемым в кругах интеллигенции (не профессионалов-интеллектуалов, а тех задумчивых «моралистов», к числу которых принадлежат выходцы из всех слоёв русского общества, включая представителей «рабочего класса и крестьянства», далёких от желания бороться с властью либо «подлизываться» к ней) 7.
Примечательно, что описанная точка зрения разделялась не только во времена советского диссиданса. Она сохранила своё значение и позже, когда, после бурь и потрясения (при попытке создания в России парламентской республики и страстей по поводу телетрансляций заседаний Парламента — первого съезда Советов (1989–1990)), российские гражданские институты вступили в полосу глубочайшей стагнации и депрессии со времён разгона парламента и последовавших за ними мутаций политических институтов.
Политика и сегодня для многих остаётся «грязным делом», поскольку национальный менталитет 8 упорно связывает её со всеми возможными злоупотреблениями и беззакониями, противопоставляя ей «позитивную работу» возделывания «своего сада», своего рода советскую и постсоветскую «теорию малых дел».
Жизнь культурных форм в современной России, безусловно, не находит реализации политического топоса, соразмерного задаче «введения в социальную реальность» гражданской позиции, позиции «существа политического». Развалины Римской империи, на которых выработалась эта позиция в трудах Августина («государство — это шайка разбойников»),— видимо, прообраз любой земной империи и любого «Града Земного». Однако «кесарю» положено «отдать кесарево». Эта точка зрения не запрещает «порядочному человеку» — например, верующему христианину,— быть гражданином. Она лишь указывает на то, что необходимость исполнения гражданских обязанностей (!) не равнозначна исполнению обязанности спасения 9.
В строительстве нации по признаку религиозности 10, всерьёз обсуждаемому сегодня не только в научных, но и в политических кругах «правоцентристских консерваторов», на мой взгляд, «недоучтён» этот факт — факт «перпендикулярности» Церкви и государства, их совпадения в социальной ткани лишь по видимости, но никоим образом не по существу. Равно как, по всей вероятности, недостаточно проработан «вечный» (с некоторых пор) «русский вопрос» о «грехе» политической активности, которая «зазорна» («Но тщетно всё, я строю над провалом»,— слова Бориса Годунова в одноимённой драме А. К. Толстого). Замена «реализации свободы» через конкретную и максимально согласованную организацию жизни общества разного рода идеологическими симуляциями, подменяющими сам процесс организации регулярными «декларациями о намерениях» — главная проблема «тормозящих» социумов — сегодня выходит в России на передний план.
Однако инварианты жизни культурных форм, прослеживаемые по всему миру, исключают долговременное функционирование социальных организмов, имеющих в своём арсенале такой высокий уровень политизации ценностных баз (например, религии и морали) и столь низкий уровень «положительной» социальнополитической активности, требующей повышения степени рациональности и прозрачно- сти организации общественной жизни во внутриполитическом формате. Даже в рамках племенных союзов, существующих в современном мире, политика есть; и она имеет определённый (хотя и неоднозначный) смысл для обычных людей. Прежде всего, этот смысл состоит, как уже отмечалось, в организации социальной жизни 11, и лишь затем отсылает к идеологическим усилиям, обеспечивающим манипулятивную часть такой организации.
Русский мир в этом смысле сегодня плохо вписывается (за исключением внешних риторических практик) в рамки «политической инвариантности». Эта специфика русского менталитета, помноженная на годы политических репрессий и хаоса постперестроечной социальной дезорганизации, и даёт, по-видимому, эффект новейшей «российской аполитичности». Исследование этого феномена — важная задача конкретных социологических и политологических программ, поскольку «раздражённое инертное большинство», действительно, представляет собой хорошую почву и для превращения в «агрессивное» (например, под вывеской этнокультурного национализма, чрезвычайно опасного в полиэтническом и далеко не монокультурном пространстве России), и для перехода в созидательно-творческое состояние. Социальная активность, развёрнутая по азимуту активности политической — важная составляющая подобных процессов. Её условия и лимиты, разумеется, следует учитывать при выработке конкретных рекомендаций по определению возможного «топоса» политики в жизни российских культурных форм. Особенно сегодня, когда этот вопрос явно назрел.
Список литературы Политический топос в жизни современных культурных форм: инварианты и своеобразие России
- Арзуманов И. А. Политико-правовые и методологические аспекты курса «Политика и религия». Ч. 1 // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». 2013. № 1 (10). С. 123-131.
- Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4-х т. М., 1983. Т. 4. С. 378.
- Бердяев Н. А. Духи русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1990. С. 51, 90 и др.
- Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Париж, 1939. С. 78, 184 и др.
- Воденко К. В., Тихоновскова С. А. Социально-экономические институты и христианство: особенности взаимоотношений // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Серия «Социально-экономические науки». 2014. № 1. С. 167-177.
- Глаголев В. С. Вербально-понятийные аспекты методологического дискурса VII Конвента РАМИ // Вестник МГИМО. 2012. № 6. С. 216-219.
- Кравченко С. А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социологические исследования, 2014. № 8. С. 3-10.
- Кучмаева И. К. Социальные закономерности и механизмы наследования культуры. М., 2006. С. 45-71.
- Кучмаева И. К., Расторгуев В. Н. Природа самоидентификации: русская культура, славянский мир и стратегия непрерывного образования. М., 2004.
- Мунтян М. А. Национальный человеческий капитал и будущее России // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 3. С. 147-149.
- Платон. Законы // Платон. Сочинения: в 4-х т. М., 1994. Т. 4. С. 75.
- Подберезкин А. И., Гебеков М. П. Национальный человеческий капитал на перепутье. М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 123-222.