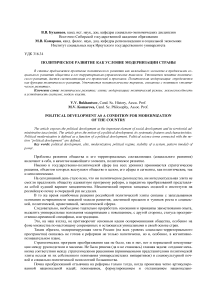Политическое развитие как условие модернизации страны
Автор: Буханцов В.В., Комарова М.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (34), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается прочтение политического развития как важнейшего элемента и предпосылки социального развития общества и его территориально-управленческих таксонов. Уточняется понятие политического развития, дается систематизация его проявлений и признаков. Политическая модернизация определяется как функция политического развития. Уточняются политологические термины, связанные с понятием «политическое развитие».
Политическое развитие, элита, модернизация, политический режим, жизнеспособность и устойчивость системы, модель власти
Короткий адрес: https://sciup.org/142142350
IDR: 142142350 | УДК: 316.34
Текст научной статьи Политическое развитие как условие модернизации страны
Проблемы развития общества и его территориальных составляющих (социального развития) включают в себя, в качестве важнейшего элемента, политическое развитие.
Именно в государственно-политической сфере (на всех уровнях) принимаются стратегические решения, объектом которых выступают общество в целом, его сферы и сегменты, как политические, так и неполитические.
На сегодняшний день стало ясно, что ни политическое руководство, ни интеллектуальная элита не смогли предложить обществу адекватную программу реформ, а парадигма преобразований представляла собой худший вариант западничества. Механический перенос западных моделей и институтов на российскую почву в очередной раз не удался.
В то же время ошибочные решения российской политической элиты связаны с запаздыванием осознания исчерпанности западной модели развития, достигшей пределов и тупиков роста в социальной, политической, нравственной, экологической сферах.
Следовательно, необходимо тщательно проработать основания и принципы заимствования опыта, выделить универсальные положения модернизации с повышением, с другой стороны, статуса пространственно-временной специфики, или традиции.
Это, на наш взгляд, не противоречит основным идеям осовременивания общества, особенно на фоне множества по-настоящему современных и остающихся уникальными в своей основе стран.
Таким образом, модернизирующая элита России (на всех уровнях социально-территориального пространства) оказалась не готова к реформам не только политически, но и, особенно, в когнитивнопознавательном плане.
Стратегических программ преобразования как не было, так и нет, нет и нормальной коммуникации между руководством и массами. Не была решена (да и не ставилась) главная задача: создание механизма соответствия между стратегическими решениями (принимаемыми представителями политической элиты исходя из их собственного понимания универсалистских императивов) и социокультурной почвой и социально-политической психологией большинства.
Почва преобразований отзывчива на реформы только тогда, когда пронизана четко артикулированной национальной идеей; пониманием, формулированием и отстаиванием национально- государственных интересов; формированием социальных групп и слоев, заинтересованных в реализации своих потребностей и интересов в собственной, но модернизированной стране.
Естественно, что добиться позитивного решения данных проблем может только общество во главе с сильной национальной политической элитой (и на уровне федерального центра, и на уровне регионов).
Очевидно, модель России как «запоздавшего» общества и модель «догоняющего» развития, разделяемая руководством, должны быть преодолены. Модернизационные усилия Д. Медведева, на наш взгляд, все еще остаются в русле предыдущих безуспешных попыток.
Напомним, что существует несколько общих моделей общественного развития (парадигмальных моделей): линейная парадигма (Вольтера - И. Канта); циклическая парадигма (Н. Данилевского, К. Леонтьева, О. Шпенглера, П. Сорокина); линейно-циклический синтез как сходящаяся спираль (Г. Гегеля, К. Маркса); линейно-циклический синтез как расходящаяся спираль (Р. Абдеева); миросистемная, основанная на сегментности социального времени, парадигма (Ф. Броделя). Фундаментальной надо признать также синергетическую теорию И. Пригожина и И. Стенгерс.
Универсальными характеристиками в мире И. Пригожина вместо регулярности, детерменирован-ности и обратимости становятся сложность, нелинейность, неопределенность, необратимость. В этой стохастической Вселенной присутствует человек, реализующий основные качества через человеческую свободу. Он субъект, действующий в условиях негарантированного и непредопределенного выбора, так, что история «перестает быть надсмотрщицей над рабами, стремящейся к одной убийственной (во всех смыслах слова) мечте: диктовать живым свою волю, будто бы переданную ей мертвыми»[4, с.37].
В силу универсальности стохастических характеристик и особенностей их явления в обществе можно утверждать, что каждое состояние становящейся социальной системы будет бифуркационным.
Переход к демократии в рамках данной парадигмы необходимо рассматривать как кризис политической системы, в условиях которого неопределенность и роль случайностей возрастают , но вместе с тем неизмеримо усиливается значение политики как негарантированной в своих результатах деятельности, а демократия наполняется своим настоящим смыслом, связанным с номиналистическими презумпциями (общее - это сумма отдельного частного и не имеет онтологического содержания). Поэтому индивид живет и действует как автономное суверенное существо, принимающее решения на основе своих индивидуальных интересов и личных представлений о сущем и должном. Следовательно, в демократии (номиналистической системе) нет места пассивным ожиданиям и ценностям единой обезличенной судьбы, поглощения частного общим, подчинения индивидуального здравомыслия коллективной вере. Индивидуальный осмысленный выбор вместо преданности и слепой веры меняет политический и социальный ландшафт: индивиды в качестве «свободных электронов»[3, с.22] разрывают связь со своей социальной средой, меняют групповую принадлежность, руководствуясь своими личными представлениями о выгодном и достойном.
Все это делает возможным существование широкого спектра исторических альтернатив, а также предполагает необходимость диатропического прогноза общественно-политического развития России с указанием наиболее опасных и наиболее благоприятных вариантов общественных трансформаций с целью сознательной поддержки приемлемых и безопасных путей социальных изменений.
Это приводит к резкому возрастанию роли и значения политического руководства как главного аттрактора, формирующего кумулятивную среду развития : будущее общества многовариантно, отражает выбор (стратегические решения, стратегии) политического субъекта и во многом определяется его способностями и нравственностью. Главным субъектом социального строительства могут быть только интеллектуальная элита (точнее, ее национально-неоконсервативное крыло) и политическое руководство, придерживающееся гуманистических и социально-государственных национальных интересов.
Политический выбор базируется на понимании сложного отношения между временем и пространством. Пространство и время находятся в неразделимом единстве, что выражается в понятии «пространство-время». В социальном преломлении это означает существование не только «всеобщего» социального времени (человечества), но и локального времени, в котором находятся (живут) локальные пространства, общественные системы, имеющие долгосрочные и самодостаточные характеристики своего развития. Национальная матрица, определяющая характер и механизм общественных изменений (временной ритм, пружины, источники социальной динамики) локального пространства - времени, зависит от соотношения власть - собственность[1].
Когда власть и собственность слиты, мы имеем случай традиционного общества, когда разделены - современного (демократического, модернизированного).
Однако разделение власти и собственности только предпосылка современности. Ее главный параметр - человеческое измерение. Человек как универсальное многомерное существо (противоречивое единство биологического, культурного и социального) становится мерой всех вещей и в своей уникальной универсальности выступает как высшая цель и смысл истории.
Значит, успешная политическая стратегия должна строиться на концепции гуманистического социально ориентированного общества. Главной целью такого общества на деле является человек и его совершенствование. Достижение цели возможно только через рост и изменение политической системы в направлении расширения возможностей средств управления справляться с трудностями, т.е. через политическое развитие[2].
Нельзя согласиться с тем, что политическое развитие тождественно росту демократических институтов и практик. Очевидно, что оно связано с возрастающей сложностью, специализацией и дифференциацией политических институтов. Кроме того, политическое развитие включает в себя возрастание самореализации субъектов политического процесса и гуманизацию политических процессов и действий.
Как сложное общественное явление политическое развитие можно анализировать, группируя его признаки вокруг более крупных качественных характеристик. В данном случае это политическое пространство, достойные способы изменений, жизнеспособность системы, устойчивость к неблагоприятным внешним и внутренним возмущениям [2, с. 17].
Политическое пространство характеризуется следующими признаками развития политической системы: разнообразие различных политических сил и институтов гражданского общества; безусловная защита прав и свобод членов общества; свобода и альтернативность источников информации; способность рождать идеи политических изменений; возможность мирного смещения правительства; наличие политической элиты, являющейся примером для остальной части общества и несущей ответственность за порядок и законы; реальная ответственность исполнительной власти перед парламентом и народом; расширение политического пространства за счет возможности ненасильственного выбора; высокая терпимость к оппозиции и признание ее необходимости в общественном мнении и защищенности со стороны закона.
Достойные способы изменений включают в себя: свободные и альтернативные выборы; созидательный характер политических конфликтов, объединяющих гетерогенные ценности социальных, этнических, конфессиональных и идейных групп; наличие у правящей политической партии программы экономических и политических преобразований; принятие политических решений путем согласия и сотрудничества; гуманистическое политическое сознание.
Жизнеспособность и устойчивость политической системы определяются: наличием развитой духовной культуры с духовной легитимацией ценностей; осознанной обществом парадигмой развития; историческим оптимизмом; способностью выбирать в точках бифуркации новые каналы эволюции; высоким уровнем науки, культуры, медицины и других жизненно важных сфер цивилизованного общества; признанием важной роли идеологии как многоуровневой интегративной силы, формирующей политическое мировоззрение (систему ценностей); развитой системой образования; наличием продуманной программы воспитания граждан.
Естественно, что достижение всех этих качеств является принципиально незавершаемым процессом, осуществляемым руководством в условиях длящейся модернизации .
Кризисы как атрибут политического выбора в условиях модернизации порождаются противоречием между универсальными (необходимыми для экономической эффективности) и традиционными (отвечающими за политическую лояльность и национальное единство) ценностями. Кроме того, перманентным становится «синдром модернизации», при котором специализация ролей и функций в политической системе, политическое участие и эффективность принимаемых политических и административных решений являются сторонами единого противоречивого процесса политической дифференциации и интеграции (в том числе в социально - территориальном аспекте).
Следовательно, политическая модернизация (и модернизация в целом) должна рассматриваться как функция политического развития и его качественная характеристика. При этом формы и механизмы модернизации определяются культурно-исторической и социально-экономической спецификой модернизирующейся страны и ее регионов.
Для России характерна мобилизационная модель развития, главным субъектом которой являлась административно-политическая бюрократия. Очевидно, что и сегодня противоречия между потребностями и задачами государства и возможностями гражданского общества делают необходимым сохранение политической системы с приоритетом политических целей государства над экономическими интересами хозяйственных субъектов.
В то же время только сильное политическое руководство (как на уровне федерации, так и ее регионов) может провести стратегию, направленную на строительство социального государства, становление гражданского общества, воспитание человека - индивидуальности. Особая роль государства в системе собственности, управлении основными отраслями экономики позволит осуществить мобилизацию ресурсов на решение этих задач.
Такая стратегия (стратегия национальных интересов и приоритетов) естественным образом базируется на традиционных ценностных ориентирах массового сознания: сохранение государственной целостности России как единой полиэтнической Федерации; признание исторически обусловленных политических и экономических интересов в странах СНГ и Балтии; использование достижений мировой цивилизации при обеспечении интересов российского общества; социально ориентированная рыночная национально-ответственная экономика; социальное государство.
При проведении стратегических решений национальная элита должна стремиться представлять собой пример воплощения высокой нравственной идеи особого предназначения и ответственности российского народа за происходящее на планете.
Свою опору политическое руководство может найти в армии, науке, системе образования и воспитания, сфере производящей экономики.
Достижение стратегических целей возможно только на основе социальной и политической стабильности. Носителем и защитником интересов центризма сегодня является большинство населения страны, поэтому стабильным политическим режимом может быть не столько либеральнотехнократический национальный «просвещенный» авторитаризм, сколько полноценная демократия, создающая предпосылки для перехода к федеративному государству социал-демократической направленности.
Несовершенство и незавершенность федеративного устройства государства усложняют политическое развитие Российской Федерации как противоречивого единства общего и особенного: накладываясь на общероссийское политическое пространство (параметры которого задаются федеральным политическим руководством), локальные (региональные) политические процессы существенным образом влияют на единое российское пространство-время. Вектор политического развития страны, общероссийская политическая модель, являясь базовыми величинами, не могут отменить своеобразия региональных моделей власти. Можно говорить о региональных коэффициентах специфики протекания пространственно-временных процессов на территориях субъектов РФ.
Интегральным концептом для понимания политической трансформации регионов может быть принят «региональный политический режим» или «региональная модель власти».
Как правило, под политическим режимом в политико-правовой литературе (в теории государства и права) подразумевают систему методов, способов и средств осуществления политической власти. Наряду с формой правления и формой государственного устройства политический режим определяет форму государства. Поэтому нет предпосылок и причин некорректно переносить этот термин на конституционную модель правления и толковать его расширительно.
Другой аспект, связанный с понятием, - соотношение «политического» и «государственного» режимов. Естественно, что расценивать их как тождественные вряд ли правильно.
Понятие «политический режим» - это динамическая характеристика политической системы, включающая в себя как методы и приемы осуществления политической власти со стороны государства, так и властные проявления других субъектов (элементов) политической деятельности. Поэтому признаки политического режима вычленяются из динамики всех основных (как государственных, так и негосударственных) элементов политической системы: степень участия народа в механизмах формирования политической власти; способы формирования власти; соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства; гарантированность прав и свобод личности; характеристика реальных механизмов осуществления власти в обществе; степень реализации политической власти непосредственно народом; положение средств массовой информации; степень гласности в обществе; прозрачность государственного аппарата; место и роль негосударственных структур в политической системе; соотношение между ветвями власти; характер правового регулирования в отношении граждан и должностных лиц; тип политического поведения; характер политического лидерства; учет интересов меньшинства при принятии политических решений; доминирующие методы осуществления политической власти; степень верховенства закона во всех сферах общественной жизни; принципы взаимоотношения общества и власти; политическое и юридическое положение и роль в обществе силовых структур государства; мера политического плюрализма; существование реальных механизмов привлечения к политической ответственности должностных лиц вне зависимости от занимаемой должности.
Понятно, что в трансформационный период политического развития различные качества политического режима могут появляться, исчезать, являться снова, а соотношение между ними будет носить подвижный и часто неопределенный характер.
Вот почему, на наш взгляд, лучше оперировать понятием «модель власти», включающим, в первую очередь, совокупность акторов политического процесса, их стратегии в борьбе за власть (ее удержание или завоевание), а также формальные институты государства.
Думается, не вызывает сомнений существование, в качестве значимых политических реалий, региональных моделей власти, хотя мера их оригинальности и самостоятельности может сильно колебаться.
Главной предпосылкой вариативных моделей власти является федеративное территориальногосударственное устройство России. Кроме того, при всех поползновениях федерального центра на формальные права субъектов Федерации, центр никогда не сможет (и никогда не мог) добиться политической монополии в регионах. Территориальная власть всегда будет компромиссом (через конфликт) между акторами трех политических уровней: политическим руководством страны, политическим руководством регионов, руководством на местах. При этом стратегия развития с неизбежностью ведет к перетеканию власти сверху вниз государственного и политического устройства Федерации. Этого требует распределение управления как важнейший феномен оптимизации институтов и структур в ходе их коэволюции в технике, экономике, социуме.