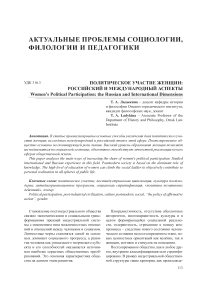Политическое участие женщин: российский и международный аспекты
Автор: Ладыкина Татьяна Александровна
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Актуальные проблемы социологии, филологии и педагогики
Статья в выпуске: 1 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы основные способы увеличения доли политического участия женщин, исследован международный и российский опыт в этой сфере. Постсовременное общество основано на доминирующей роли знания. Высокий уровень образования женщин позволяет им подниматься по социальной лестнице, объективно способствует личностной реализации во всех сферах общественной жизни.
Политическое участие, постиндустриальная цивилизация, культура постмодерна, антидискриминацонные программы, социальная стратификация, "политика позитивных действий", гендер
Короткий адрес: https://sciup.org/14317319
IDR: 14317319 | УДК: 316.3
Текст научной статьи Политическое участие женщин: российский и международный аспекты
Political participation, post-industrial civilization, culture postmodern, social, “the policy of affirmative action”, gender.
Становление постиндустриального общества связано экономическими и социальными трансформациями прежней индустриальной системы с изменением типа межличностных отношений и отношений между человеком и социумом. Личностные черты становятся одной из основных доминант социального прогресса, а развитие человека как уникального творческого субъекта и его способностей оказывается источником наиболее серьезных общественных преобразований. Это основная характеристика общества на данном этапе развития.
Плюралистичность, отсутствие абсолютных авторитетов, многовариантность культуры и в целом формирующейся социальной реальности, толерантность, стремление к поиску компромисса – следствие нового состояния человеческого сознания на постсовременном этапе, новых ценностных ориентаций как мужчин, так и женщин, мотивов и стимулов их поведения.
Постсовременное общество, как и любое другое, внутренне классифицировано или стратифицировано. В рамках индустриальной общественной структуры такие критерии, как происхожде- ние, пол, расовая и этническая принадлежность, политическая лояльность определяли социальный статус человека. Доступ к материальным благам и услугам, достижения в процессе экономического производства задавали социальную мобильность, т. е. перемещение в системе стратификации по вертикали в обоих направлениях1.
Социальная организация постиндустриального общества основана на доминирующей роли знания во всех сферах жизни. Уровень образования стал определяющим двигателем вертикальной мобильности. Формирующийся новый класс включает в себя лиц, главное занятие которых состоит в производстве и распределении теоретических знаний. Появление этого нового класса привело к серьезным изменениям в общественной структуре, одним из которых стало изменение социального статуса женщин, имеющих не только формально, но и фактически равные права на получение высшего образования и, следовательно, располагающих паритетным представительством в сфере науки, образования, инженерно-технической деятельности и других информационных сферах, развиваемых посредством личностной творческой активности.
В европейском и американском обществах феминистская идеология, оказавшая значительное влияние на политику в области высшего образования, способствовала разработке и внедрению антидискриминационных программ, включающих следующие требования: увеличение представительства женщин в сфере науки; содействие женщинам, работающим в сфере высшего образования и науки; равные права мужчин и женщин при приеме на работу в вузы; организация контрольных комиссий, изучающих положение женщин; создание программ повышения квалификации женщин и т. д.2
В последние десятилетия ХХ века в области образования женщин произошли разительные перемены: их число в вузах достигло половины от общего числа обучающихся и даже намечается небольшое превышение3. Можно утверждать, что прежние стратификационные критерии, распределяю- щие власть и материальные блага в пользу мужчин, устарели, а новая стратификационная система, выдвигающая на первый план критерий образования, оказывается относительно индифферентной по отношению к признаку пола. Это означает, что женщины в постиндустриальном или постмодернистском обществе имеют реальные возможности отказаться от зависимого положения, выйти за рамки приватного пространства семьи и реализовать себя в общественной сфере. Более того, именно это наблюдается в Европе и США.
Однако постмодернизация, произошедшая в Японии и странах Юго-Восточной Азии, где феминизм не распространен и не является частью государственной политики, не привела к коренным изменениям положения и роли женщин в обществе. С точки зрения традиционных ценностей, устоявших в процессе постмодернизации, не нужно менять положение женщин, а можно использовать такие, следующие из их пассивности, свойства, как готовность работать за низкую плату, терпение, неспособность бунтовать и т. д. «Женщины Юго-Восточной Азии терпеливо плели корзинки, теперь так же терпеливо они паяют диоды и триоды высококачественной бытовой электроники»4.
В России «женский вопрос», как многие другие вопросы, решался особым образом. Избранная тема исследования не предполагает подробного глубокого экскурса в историю проблемы, но понимание особенностей политического участия женщин в России в настоящий момент, понимание перспектив, строго говоря, без ретроспективы невозможно.
В начале ХХ века российская интеллигенция, правящий класс, элита были хорошо осведомлены об успехах суфражистского движения в Европе и Америке и его идеологии. Россия же оставалась по преимуществу аграрной, традиционно про-религиозной страной, и о сколько-нибудь широкой социальной поддержке идей женского равноправия говорить не приходится. Перемены происходят только с приходом к власти большевиков. В связи с этим вспоминается знаменитое ленинское утверждение о том, что каждая кухарка должна уметь ру- ководить государством. Хотя советские женщины не занимали высоких постов в административной системе (за редким исключением, например, министр культуры в 1960-е годы Е. Ф. Фурцева), государственная политика, нуждаясь в дополнительных рабочих руках, эффективно вовлекала женщин в производство и, шире, в сферу общественной жизни. Женщины получали образование. Pуково-дящие органы нижнего и среднего звена комплектовались женщинами, определенные квоты гарантировали участие в политической жизни. «Слабый пол» активно осваивал новые социальные роли, в общественном сознании широко распространился и закрепился образ женщины-работницы и активистки. Такая политика была прогрессивной, особенно если сравнивать ее с политикой Pоссийской империи в этом вопросе.
Но, с другой стороны, сформировалась негативная ситуация двойной женской занятости: полный восьмичасовой рабочий день совмещался с выполнением домашней работы, работы по уходу за несовершеннолетними детьми, их воспитанием. Массовое сознание с упорством и настойчивостью воспроизводило устойчивые гендерные стереотипы, характерные для традиционного общества. Парадоксальность ситуации, характерной для советского периода, заключается в том, что стремление к свободе обернулось двойным закрепощением. Женщины осваивали профессии, сопряженные с тяжелым физическим трудом, а в Великую Отечественную войну им полностью пришлось заменить мужчин на производстве.
В 1990-е годы западная либеральная идеология, вследствие исчезновения Советского Союза с политической карты мира, хлынула на постсоветское пространство, в том числе и феминистские идеи. Демократизация всех сторон жизни объективно подталкивала к тому, чтобы воспринять и попытаться адаптировать практику широкого привлечения женщин для участия в решении общественно значимых вопросов. Первоначально так действительно и было. В органах государственной власти было представлено значительное число женщин, даже существовала партия «Женщины Pоссии», появились женщины-бизнесмены, организаторы и владелицы фирм, банков, предприятий.
Однако в 2000-е годы уже можно наблюдать совсем другие, неблагоприятные тенденции. Число женщин в органах власти постепенно сокращалось, политический плюрализм, в том числе реализуемый через многопартийность, сдавал позиции. Мелкий и средний бизнес (а женщины-руководители были по преимуществу представлены в этом секторе экономики) разорялся вследствие череды финансовых кризисов.
В 2010–2011 гг. многие западные правозащитные ситуации, международные аналитические организации и фонды уже отрыто констатируют ухудшение гражданского климата в Pоссии, постепенное сползание к авторитаризму. В такой ситуации объективно возможности для политического участия женщин сокращаются. Можно было бы сказать, что маятник истории просто качнулся в другую сторону, за поражениями вновь последуют успехи, как это уже неоднократно и было. Но можем ли мы пассивно дожидаться новых тенденций, не предпринимая никаких шагов в этом направлении? Думается, что нет. Более того, не существует иного выхода, кроме как осваивать накопленный в постиндустриальных странах опыт.
Действительно, постиндустриальная или постмодернистская форма социального устройства в наибольшей степени обеспечивает первоначальное равенство возможностей, отказываясь от раз и навсегда установленных иерархий. Таким образом, общество создает структуру равных возможностей реализации жизненных планов, детерминированных одинаковыми условиями для своих членов, независимо от расовой, этнической, социальной, половой, религиозной принадлежности. Это не только делает общество более открытым, с проницаемыми границами между различными странами, но и менее насильственным.
Широкое включение российских женщин в сферу политики является теоретически и практически чрезвычайно важным моментом, поскольку политическая власть, обладая ресурсами, монополией на применение силы, издание законов, организует и контролирует жизнь общества.
Политическая роль женщин в постсовременном обществе проявляется как на индивидуальном уровне рядовых граждан, так и на уровне политической элиты, представленности в системе органов государственного управления и в качестве организованной политической силы.
В условиях демократии женщины располагают абсолютным большинством голосов, составляют основную массу электората. Теоретически от волеизъявления женщин зависит выбор того или иного политического курса государства. Главными препятствиями, ограничивающими сферу женского влияния, являются созданная преимущественно мужчинами политическая культу- ра, неопределенность целей и разобщенность, т. е. отсутствие согласия среди самих женщин.
Под влиянием теории и практики феминизма в развитых постиндустриальных странах участие женщин в управлении делами государства рассматривается как важная составная часть демократической модели государственного устройства. Активизация женских движений привела к существенному росту представленности женщин в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти на уровне местного и центрального управления.
Достижению цели увеличения численности женщин на всех уровнях принятия политических решений служат специальные законы и нормативные акты в области равноправия женщин и мужчин. Так, например, в середине девяностых годов XX в. и ранее в странах Северной Европы, Австрии, США были приняты законы, в соответствии с которыми должностные лица обязаны целенаправленно способствовать развитию равноправия женщин и мужчин5. Повышению роли женщин в управлении обществом способствуют следующие мероприятия: целевые программы по стимулированию женского представительства в политических партиях и парламенте, структурах исполнительной власти; контроль над правительственными назначениями с позиций соблюдения равноправия; регулярная статистическая отчетность перед парламентом о положении женщин в государственных органах управления; составление рекомендаций для кадровых служб органов государственной власти и комиссий по отбору должностных лиц, в которых подчеркивается необходимость обеспечения равных прав как при приеме на работу, так и при решении вопросов продвижения по службе; создание специальных комитетов, контролирующих следование данным рекомендациям, и т. д. В результате таких планомерных действий, например, в Нидерландах женщины в 2000 г. занимали 4 из 14 министерских постов и 5 из 12 постов госсекретарей, в парламенте Норвегии более одной трети от общей численности депутатов являются женщинами, последняя администрация Соединенных Штатов самая «женская» в истории – женщины в ней занимают более 40 % постов и т. д.6
Таким образом, антидискриминационное законодательство подкрепляется «политикой позитивных действий», облегчающей женщинам доступ к образованию, стимулирующей их социальную мобильность и содействующей в конечном счете дальнейшему раскрытию потенциала женщины. С целью исключения прямой или более распространенной косвенной дискриминации вводятся различные обучающие курсы и программы, нацеленные на увеличение конкурентоспособности женщин на рынке труда, пересматриваются правила приема на работу, в должностные структуры, используются квоты и т. д. Иначе говоря, позитивные действия представляют собой совокупность мер в виде различных программ, направленных на преодоление неравноправного положения женщин. Pазличают «мягкие» и «жесткие» средства обеспечения программы позитивных дей-ствий7. «Мягкие» реформы предполагают отказ от структурных препятствий, оказывающих негативное воздействие на женщин. «Жесткие» средства включают в себя реформы, которые предполагают участие женщин единственным критерием для допуска на работу и в должностные структуры, при этом квалификация и способности не имеют первостепенного значения.
Кроме того, отметим, что уже в данный момент совершенно очевидно, как многие проблемы и заботы, касающиеся женщин, ранее находившиеся вне рамок политики, становятся объектом внимания политики и политиков, центральными вопросами современных политических дебатов. Поддержка государственных программ, затрагивающих интересы трудящихся женщин, семьи, материнства, детства, меры по стимулированию деловой активности женщин оказываются одним из приоритетных направлений внутренней политики многих стран, в том числе Pоссии.
Изменяется само содержание политики: проблемы, имеющие приоритетное значение для женщин, например, практика создания детских дошкольных учреждений, политика в области детских пособий и т. п. – иначе говоря, те сферы, где женщины традиционно прилагают свою социальную энергию, вовлекаются в политический дискурс. В конечном итоге политика приобретает черты универсального средства, удовлетворяющего потребности как мужчин, так и женщин, т. е. становится гендерно-нейтральной сферой, базирующейся на общечеловеческих ценностях. Известное выражение «политика – не женское дело», являющееся, по сути, негативным определением политики, исчезает, когда женщины приходят во власть.
В заключение отметим, что изменение условий и форм социализации женщин, доступных им социальных возможностей и ролей изменяет их политическое поведение в рамках постсовременности. Это объективный процесс, принимающий в последнее время глобальные масштабы. И Pоссия в этой ситуации, безусловно, не должна оставаться на обочине истории. Освоение международного позитивного опыта и формирование собственного неизбежно.
Список литературы Политическое участие женщин: российский и международный аспекты
- Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе): пер. с англ. М.: Прогресс-Универс, 1994. С. 63-75.
- Mohr W. Frauen in der Wissenschaft: Ein Ber zur sozialen Lage von Studentinnen u. Wissenschaftlerinnen im Hochschulbereich. Freiburg im Breisgau: Dreisman Verl., 1987. Р. 312 -313.
- Elgqvist-Saltzman I. Education reforms -women's life patterns: A. Swed. case study//Higher educations. Amsterdam, 1988. Vol. 17. P. 491-504.
- Sutherland M. Women in higher education: Effect of crises a. change//Higher educations. Amsterdam, 1988. Vol. 17. P. 479-490.
- Vetter B. M. Women in science//The American woman: A rep. in depth. N. Y.; L., 1987. P. 208-214.
- Федотова В. Г. Типология модернизаций и способов их изучения//Вопросы философии. 2000. № 4. С. 19.
- О мерах по расширению представленности женщин в системе органов государственного управления в ряде ведущих в этом отношении стран мира//Вестник № 13 ИЦ НЖФ. М., 1998. С. 58-60.
- Кукаренко Н. Н. Социально-философский анализ проблемы равноправия в гендерной перспективе: автореф. дис.... канд. филос. наук. Архангельск, 1999. С. 17.