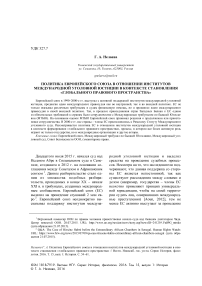Политика европейского союза в отношении институтов международной уголовной юстиции в контексте становления "глобального правового пространства"
Автор: Нелаева Галина Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Европейский союз в 1990-2000-е гг. выступал с активной поддержкой институтов международной уголовной юстиции, продвигая идею международного правосудия как во внутренней, так и во внешней политике. ЕС не только оказывал различным трибуналам и судам финансовую помощь, но и продвигал идею международного правосудия в своей внешней политике. Так, в процессе присоединения стран Западных Балкан к ЕС одним из обязательных требований к странам было сотрудничество с Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). На основании оценок МТБЮ Европейский союз принимал решения о продолжении или приостановке сотрудничества. В 2000-е гг. все страны - члены ЕС присоединились к Римскому Статуту Международного уголовного суда. Рассматривается политика ЕС в отношении институтов международной уголовной юстиции в контексте формирования «глобального правового пространства», процесс, в котором все более активную роль играют не только государства, но и международные организации и другие акторы.
Европейский союз, международный трибунал по бывшей югославии, международный уголовный суд, совет безопасности оон, гуманитарное право
Короткий адрес: https://sciup.org/147219487
IDR: 147219487 | УДК: 327.7
Текст научной статьи Политика европейского союза в отношении институтов международной уголовной юстиции в контексте становления "глобального правового пространства"
Двадцатого июля 2015 г. начался суд над Иссеном Абре в Специальном суде в Сенегале, созданном в 2012 г. на основании соглашения между Сенегалом и Африканским союзом 1. Данное разбирательство стало одним из множества подобных разбирательств, проводимых в конце XX – начале XXI в. в трибуналах, созданных международным сообществом. Европейский союз (ЕС) выделил на проведение слушаний 2 млн евро 2. Европейский союз неоднократно высказывал поддержку институтам междуна- родной уголовной юстиции и выделял средства на проведение судебных процессов. Несмотря на то, что исследователи подчеркивают, что данная поддержка со стороны ЕС является непостоянной, так как существуют расхождения между словами и делом (например, государства – члены ЕС неохотно применяют принцип универсальной юрисдикции, чтобы на своей территории судить лиц, совершивших международные преступления) [Aoun, 2012], тем не менее ЕС активно выступает за проведение разбирательств на международном уровне. В данной статье рассматривается политика ЕС в отношении институтов международной уголовной юстиции (в том числе, в отношении Международного уголовного суда).
Европейский союз начал поддерживать идею создания Международного уголовного суда в середине 1990-х гг. В то время как США выступали и выступают против суда, все 28 стран – членов ЕС подписали и ратифицировали Римский статут. Как считает Салла Гарски, Европейский союз, не имеющий возможности состязаться с США в военной сфере, пытается отстоять свою позицию иначе: в частности, путем поддержки Международного уголовного суда. Таким образом, по мнению Гарски, он уже не может отступить от своей позиции и оказывается «связанным нормами» [Garský, 2013]. И хотя сравнение политики ЕС и США в отношении Международного уголовного суда представляет несомненный интерес, мы считаем, что необходимо рассматривать политику ЕС в более широком контексте: ЕС с начала 1990-х гг. являлся сторонником идеи развития международного уголовного права и ответственности индивидов за совершение международных преступлений. Так, в 1990-е гг. ведущие страны ЕС Германия и Франция выступили с активной поддержкой Международного трибунала по бывшей Югославии. Германия активно выступала с поддержкой работы над определением агрессии в Римском статуте. Таким образом, поддержка институтов международной уголовной юстиции осуществляется в рамках внешней политики ЕС и не ограничивается Международным уголовным судом. Европейский союз не только активно поддерживал подобные институты, но и оказывал давление на другие страны, чтобы они сотрудничали и выполняли требования трибуналов: так, страны Западных Балкан были обязаны сотрудничать с Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в процессе интеграции в ЕС. По нашему мнению, данная политика проводится исходя из убеждений, появившихся в первой половине 1990-х гг. о том, что установление правды является «краеугольным камнем верховенства закона» (что не противоречит позиции США по этому же вопросу). Как считали страны – создатели МТБЮ, установление правды позволяет возложить вину не на народы, а на индивидов, тем са- мым устранив этническую и религиозную вражду и положив начало процессу примирения 3.
Становление «глобального правового пространства»
Говоря о становлении глобального правового пространства в XXI в., Александр Вылегжанин отмечает: «Сегодня любое государство – это часть межгосударственной системы. В ней есть иные компоненты, помимо государств: международные организации, международные судебные органы, народы в стадии становления государственности, государственно-подобные образования. Компоненты глобальной межгосударственной системы взаимодействуют, прежде всего, на основе международного права. Оно составляет основу стабильного, далеко не идеального, но взаимоприемлемого на данное время миропорядка» [2010]. Глобальные вызовы, обозначившиеся в последние десятилетия, делают необходимым сотрудничество государств и регулирование различных сфер международной жизни посредством международного права. Эксперты отмечают, что в 1990–2000-е гг. новые акторы международных отношений начинают играть все более активную роль в процессе формирования новых норм международного права (в отличие от классического понимания, когда основными субъектами международного права считаются государства и процесс формирования норм есть проявление их воли) [Marochkin, 2009. P. 701]. В процесс нормотворчества вовлекаются международные межгосударственные и негосударственные организации, экспертные группы, судьи различных международных трибуналов. Особенно это касается регулирования таких сфер международной жизни, как экология, права человека и международное уголовное правосудие. Как отмечает Б. Симмонс, в настоящее время база данных ООН насчитывает около 3 500 многосторонних договоров и 50 000 двусторонних (данная цифра может быть гораздо выше, потому что многие двусторонние договоры не учтены ООН): «То обстоятельство, что количество договоров увеличивается и что государства все больше обращаются к праву, участвуя в “легализацииˮ своих отношений, больше не подвергается сомнению» [Simmons, 2009. P. 187–208]. Процесс проникновения международного права в самые различные отрасли международных отношений вызывает большой интерес исследователей. Данный процесс сопровождается проникновением норм международного права в национальное законодательство, усилением влияния судов и транснациональных акторов в международных отношениях. Например, «ЕС с его легалистским подходом к межгосударственному сотрудничеству выступает в поддержку распространения норм международного права. Чем больше появляется соглашений о сотрудничестве, приносящих результаты, тем чаще акторы будут брать данный институциональный формат для создания новых соглашений» [Goldstein et al., 2001. P. 15].
Именно данный нормативный контекст позволяет понять, почему государства, ранее выступавшие против идеи создания международного уголовного суда, сейчас являются активными сторонниками международного уголовного правосудия. Например, если Маргарет Тэтчер в свое время возражала против создания Международного уголовного суда, «потому что такой суд, по ее мнению, может стать препятствием осуществлению политики и военному присутствию Запада в разных регионах мира» [Вылегжанин, 2010], сейчас все страны – члены ЕС активно выступают с поддержкой как МУС, так и других институтов, осуществляющих уголовное преследование индивидов за совершение международных преступлений (в том числе на национальном уровне, отталкиваясь от принципа универсальной юрисдикции). Примером судебного разбирательства, основанного на принципе универсальной юрисдикции, может служить разбирательство, имевшее место в Финляндии, над руандийским преступником Франсуа Базарамбой, осужденным за геноцид и приговоренным к пожизненному заключению в июне 2010 г. [Kimpimaki, 2011].
ЕС оказывает давление на другие страны с целью обеспечить сотрудничество с подобными институтами, и наиболее ярким примером такого давления служит Международный трибунал по бывшей Югославии в контексте интеграции стран Западных Балкан в ЕС.
ЕС и Международный трибунал по бывшей Югославии
Процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС имел ряд особенностей. Одной из таких особенностей стало требование ЕС о сотрудничестве стран с МТБЮ. Созданный в 1993 г. Советом Безопасности ООН, этот трибунал ad hoc с самого начала вызывал множество споров о легитимности (например, то обстоятельство, что он был создан на основе одной-единственной резолюции Совета Безопасности, действовавшего в рамках раздела VII Устава, где ничего не говорится о возможности создания подобных институтов), о том, сможет ли трибунал стать более или менее действенным судом или останется «бумажным тигром», сможет ли он выдержать проверку на беспристрастность [Нелаева, Гизатуллина, 2012]. Тем и удивительно решение ЕС обратиться к МТБЮ, институту, не имеющему никакого отношения ни к ЕС, ни к процессу интеграции стран бывшей Югославии в евроатлантические структуры. Тем более, трибунал не пользовался поддержкой граждан, и его способность сыграть какую-либо значимую роль в процессе постконфликтного урегулирования на Балканах как вызывала, так и вызывает сомнения [Hayden, 2005].
Тем не менее страны бывшей Югославии (кроме Словении) должны были не только искать подозреваемых и выдавать их трибуналу, но и оказывать давление на боснийских хорват и сербов, чтобы обеспечить их взаимодействие с трибуналом. ЕС требовал от стран Западных Балкан выполнения требований МТБЮ: условие, в случае нарушения которого процесс интеграции стран усложнится, если вообще будет возможным 4. ЕС строго следил за выполнением условий, закрепленных в Процессе Стабилизации и Ассоциации 5, в том числе, за выполнением требования о сотрудничестве, и на основании этого принимал решения о продолжении или приостановлении сотрудничества. Так, Хорватия по сравнению с Сербией гораздо быстрее продвигалась по пути интеграции в ЕС (став полноправным членом в июле 2013 г.) в связи с тесным сотрудничеством с МТБЮ. Трибунал требовал от Хорватии ареста генерала А. Готовины, который был выдан трибуналу в декабре 2005 г. 6 ЕС с энтузиазмом отреагировал на арест Готовины 7. Впрочем, несмотря на серьезность обвинений (преступления против человечности: убийство, преследование по расовым, политическим и религиозным мотивам, военные преступления, в том числе, депортация мирного населения и другие бесчеловечные деяния) 8, Готовина, а также еще один хорватский генерал, Младен Мар-кач, были оправданы и отпущены на свободу в конце 2012 г., что вызвало волну негодования как в Сербии, так и в других странах 9. С критикой решения трибунала выступила даже Карла Дель Понте, бывший главный прокурор МТБЮ, заявив, что она «шокирована происходящим» 10. Готовину, который, как выяснилось, имел еще и французское гражданство 11, встретили в Хорватии как героя. Между Хорватией и МТБЮ «не осталось неразрешенных вопросов» 12, и вскоре страна стала членом ЕС.
После ареста Готовины МТБЮ начал требовать ареста и выдачи Ратко Младича.
Сербия, долгое время отказывавшаяся от сотрудничества, сталкивается с давлением со стороны ЕС, который требует от Сербии выполнения требований трибунала. В марте 2006 г. в тюрьме умирает Слободан Милошевич, не дождавшись приговора. Несмотря на то, что отношение к бывшему президенту в 2000-е гг. в стране было довольно противоречивым, тем не менее, его смерть вызывает недовольство среди населения, которое считает, что трибунал предвзято относится к сербам. В исследовании Я. Кларк, проводившей опрос жителей Сербии об их отношении к смерти С. Милошевича, приводится высказывание сербского беженца из Хорватии, который считает, что «в 1990-е гг. Западная Европа наказывала сербский народ из-за Милошевича. Сейчас она наказывает сербов из-за таких людей, как Младич. Оказывая такое давление на сербское правительство, Запад никак не помогает простому народу. Политика Запада состоит в том, чтобы изолировать простых сербов» [Clark, 2009]. Похороны бывшего президента сопровождались многотысячными демонстрациями – как в его поддержку 13, так и против, что говорит о том, что сербское общество было расколото. По данным опросов, проводимых ОБСЕ в 2011 г. в Сербии, 70 % опрошенных отрицательно относились к трибуналу, более 50 % опрошенных считало лидеров боснийских сербов Р. Караджича и Р. Младича национальными героями 14. Тем не менее МТБЮ настаивал на аресте остававшихся на свободе подозреваемых (Р. Караджич, Р. Младич, Г. Хаджич и С. Жуплянин) и на необходимости получения доступа к правительственным архивам. В 2011 г., когда состоялся арест последних подозреваемых, президент Борис Тадич заявил, что все требования МТБЮ выполнены 15.
Слишком долгие и сложные разбирательства в трибунале стали объектом критики не только в Сербии, но и в Боснии, изна- чально относившейся к трибуналу положительно. Суд над подозреваемыми длится годами (например, лидер Сербской радикальной партии, Воислав Шешель, временно отпущенный в ноябре 2014 г. по причине болезни, провел в заключении 11,5 лет, так и не дождавшись приговора первой инстанции), а решения трибунала (как обвинительные, так и оправдательные приговоры, сроки заключения) не понятны не только населению, но и специалистам. Все это вызывает критику и разочарование со стороны жертв войны и мало способствует примирению 16.
Политика ЕС в отношенииМеждународного уголовного суда
Международный уголовный суд (МУС) занимает ключевое место среди институтов международной уголовной юстиции, являясь постоянно действующим судом. Римский Статут МУС был подписан в 1998 г. и вступил в силу в 2002 г., после того, как необходимое количество ратификаций было получено. Так как Суд формально не является частью ООН, он напрямую зависит от поддержки государств и международных организаций. С момента основания Суда, страны ЕС выступали с активной дипломатической и финансовой поддержкой данного института. С 2003 г. ЕС потратил более 20 млн евро на проекты гражданского общества по продвижению Суда и более 6 млн евро непосредственно на нужды МУС 17. Несмотря на существовавшие проблемы, связанные с ратификацией Римского Статута (например, недопустимость выдачи собственных граждан, закрепленная в конституциях некоторых стран, что вступает в противоречие с положениями Статута), странам удалось преодолеть конфликт с национальным законодательством (например, путем изменения Конституции или толкования Конституции в соответствии с положениями Статута) [Ализаде, 2011].
В 2001 г. ЕС принял Общую позицию по МУС, где утверждалось, что страны – члены ЕС поддерживают МУС и в этом отношении проводят единую внешнюю политику. В 2003 г. этот документ был пересмотрен и дополнен планом действий. Новый пересмотр документа был в 2011 г., после того, как в 2010 г. состоялась конференция в Кампале (Уганда), на которой страны приняли определение преступления агрессии (до этого Статут не содержал определения данного преступления) и согласование порядка осуществления юрисдикции Суда 18.
Соглашение между ЕС и МУС 2006 г. накладывает обязательства на страны – члены ЕС оказывать поддержку Суду, в том числе, предоставлять необходимую информацию. ЕС также взял на себя обязательство помогать Суду в подготовке судей, прокуроров и других сотрудников 19.
ЕС активно продвигает МУС не только во внутренней политике, но и во внешней политике: в настоящее время действуют 11 Специальных представителей ЕС, продвигающих политику ЕС в нестабильных регионах (таких, как Афганистан, Судан, Косово, Босния-Герцеговина, Центральная Азия). Некоторые представители, например представитель ЕС в Судане, имеют полномочия осуществлять взаимодействие с Управлением Прокурора МУС. В других регионах представители ЕС продвигают идею правосудия и взаимодействуют с Судом по определенным вопросам. Согласно соглашению Котону от 2005 г., подписанному с 75 странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, страны обязаны сотрудничать с МУС. Положение о необходимости сотрудничества с Судом также является частью и других договоров, например, договоров об ассоциации и торговых соглашений 20.
Министры иностранных дел 13 стран – членов ЕС выступили с заявлением: «История человечества связана с войнами и конфликтами, без оглядки на гуманитарное международное право или защиту гражданских лиц. Чем тяжелее зверства, тем больше вероятность, что преступники останутся безнаказанным. МУС нуждается в нашей помощи. Это не задача МУС реагировать на политически мотивированные преступления, а наш долг, наша задача» 21. Отсутствие политической воли государств сотрудничать с Судом подчеркивалось как судьями МУС, так и экспертами. Недавняя история, когда лидер Судана Омар аль-Башир, несмотря на обвинения в геноциде и военных преступлениях в Дарфуре, выдвинутых против него Международным уголовным судом, вернулся из ЮАР на родину, вопреки требованию МУС, показывает, насколько Суд зависим от политической воли государств 22.
Европейский союз, выступая в качестве «нормативной силы Европы» [Manners, 2002], оказывается «связанным» теми нормами, которые он активно продвигает на международной арене. Поддержка ЕС институтов международной уголовной юстиции, впрочем, может объясняться не только убеждениями морали, а также тем, что данные институты не несут угрозы ЕС, «большинство стран-членов считают, что им нечего бояться, даже если МУС станет сильным судом» [Groenleer, Van Schaik, 2007]. В настоящее время в МУС ведутся разбирательства в отношении индивидов, подозреваемых в совершении преступлений в африканских конфликтах, ни один европеец пока перед Судом не предстал. Политика ЕС в отношении институтов международной уголовной юстиции формируется в условиях нарастающего влияния норм международного права в регулировании международных процессов, где не только государства и международные организации играют большую роль, но и неправительственные акторы, а также судьи.
В условиях формирующихся представлений о том, каким должно быть постконфликтное урегулирование и насколько правосудие должно быть неотъемлемой частью политического урегулирования, ЕС пытается выступать как единый актор, продвигающий идею правосудия на международной арене. Страны – члены ЕС пытаются стать частью этого формирующегося «международного гуманитарного режима», но насколько их политика будет последовательна и убедительна для других стран – утверждать можно будет только когда МУС сместит внимание с африканских стран на другие конфликты.
Список литературы Политика европейского союза в отношении институтов международной уголовной юстиции в контексте становления "глобального правового пространства"
- Ализаде В. А. Взаимодействие Европейского союза и его государств-членов при имплементации римского статута Международного уголовного суда и поддержке его деятельности//Вестник МГИМО Университета. 2011. № 5. С. 235-242.
- Вылегжанин А. Становление глобального правового пространства в XXI веке//Международные процессы. Т. 8, № 2 (23). Май-август 2010. URL: http://www.intertrends.ru/twenty-three/003.htm (дата обращения 09.09. 2015).
- Нелаева Г., Гизатуллина З. Политико-правовые аспекты создания Международного трибунала по бывшей Югославии//Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 1. С. 72-80.
- Aoun E. The European Union and International Criminal Justice: Living Up to Its Normative Preferences?//JCMS: Journal of Common Market Studies. 2012. Vol. 50. Is. 1. P. 21-36.
- Clark J. N. Judging the ICTY: has it achieved its objectives?//Southeast European and Black Sea Studies. 2009. Vol. 9. No. 1-2. P. 123-142.
- Garský S. Strong, Independent, and Effective: The European Union's Promotion of the International Criminal Court/Eds. A. Boening, J.-F. Kremer, A. van Loon. Global Power Europe. Springer, 2013. Vol. 2: Policies, Actions and Influence of the EU's External Relations. P. 1-18.
- Goldstein J., Kahler M., Keohane R. O., Slaughter A.-M. Introduction//Goldstein J. et al. Legalization and World Politics. Cambridge, MA; London, 2001. P. 1-15.
- Groenleer M. L. P., Van Schaik L. G. United We Stand? The European Union's International Actorness in the Cases of the International Criminal Court and the Kyoto Protocol//JCMS: Journal of Common Market Studies. 2007. Vol. 45. No. 5. P. 969-998.
- Hayden R. M. What's Reconciliation Got to do with it? The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) as Antiwar Profiteer//Journal of Intervention and State-building. 2005. Vol. 5. No. 3. P. 313-330.
- Kimpimaki M. Genocide in Rwanda: is it Really Finland's Concern?//International Criminal Law Review. 2011. No. 11. P. 155-176.
- Manners I. Normative Power Europe: a Contradiction in Terms?//JCMS: Journal of Common Market Studies. 2002. Vol. 40. No. 2. P. 235-258.
- Marochkin S. Yu. On the Recent Development of International Law: Some Russian Perspectives//Chinese Journal of International Law. 2009. Vol. 8. No. 3. P. 695-714.
- Simmons B. International Law and International Relations//The Oxford Handbook of Law and Politics/Eds. K. E. Whittington, R. D. Kelemen, G. A. Caldeira. New York, 2009. P. 187-208.