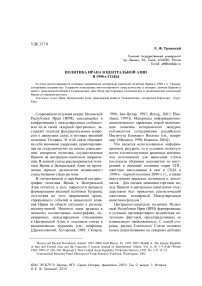Политика Ирана в Центральной Азии в 1990-е годы
Автор: Троицкий Евгений Флорентьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные направления центрально-азиатской политики Ирана в 1990-е гг. Проанализированы выдвинутые Тегераном инициативы многостороннего сотрудничества и позиция, занятая Ираном в связи с гражданской войной в Таджикистане. Дан обзор двусторонних политических и экономических отношений Ирана со странами региона.
Иран, центральная азия, гражданская война в таджикистане, газопровод корпедже - курт-кюи
Короткий адрес: https://sciup.org/14737171
IDR: 14737171 | УДК: 327.8
Текст научной статьи Политика Ирана в Центральной Азии в 1990-е годы
Современная ситуация вокруг Исламской Республики Иран (ИРИ), находящейся в конфронтации с международным сообществом из-за своей «ядерной программы», заставляет задаться фундаментальным вопросом о движущих силах и мотивах внешней политики Тегерана. В этой связи обращает на себя внимание умеренная, ориентированная на сотрудничество на основе совпадающих интересов политика, осуществляемая Ираном на центрально-азиатском направлении. В данной статье рассматривается политика Ирана в Центральной Азии на протяжении первого десятилетия независимого существования стран региона.
В отечественной и зарубежной историографии политика Ирана в Центральной Азии остается, в силу закрытости процесса формирования внешней политики Тегерана, отсутствия на этом направлении ярких, «прорывных» событий и невысокого влияния Ирана на общую ситуацию в регионе, малоизученной. Имеются лишь разделы в немногих коллективных монографиях, посвященных международным отношениям в Центральной Азии, и отдельные статьи в академических журналах (см., например: [Дружиловский, Хуторская, 2003; Скляров,
1996; Бен-Цолар, 1997; Herzig, 2001; Ehte-shami, 1997]). Материалы информационноаналитического характера, порой включающие элементы исторического экскурса, публикуются сотрудниками российского Института Ближнего Востока (см., например: [Месамед, 1998; Новиков, 2004]).
Что касается использованных информационных ресурсов, то в условиях недоступности соответствующих архивных материалов источниками для написания статьи послужили сборники документов по внутренней и внешней политике стран СНГ, ежегодно выходившие в свет в США в 1990-е – первой половине 2000-х гг., а также выступления иранских политиков и дипломатов 1. Для оценки динамики торговли между Ираном и центрально-азиатскими государствами был привлечен статистический ежегодник, издаваемый Международным валютным фондом 2.
Центрально-азиатская политика Исламской Республики Иран (ИРИ) формировалась в условиях противоречивого воздействия нескольких факторов, предопределивших ее изначальную двойственность. С одной стороны, распад Советского Союза положил конец существованию на северных рубежах
Ирана великой державы, многократно превосходящей его по военной мощи и экономическому потенциалу и традиционно воспринимаемой Тегераном как источник угрозы. У страны, провозглашающей себя лидером мировой мусульманской общины, несущим миссию распространения исламской революции, появилась возможность попытаться реализовать свои религиознополитические устремления в отношениях с новыми независимыми государствами Центральной Азии, вступающими в период возрождения ислама и утверждения религии в качестве важнейшего элемента идентичности и культурного достояния.
С другой стороны, в условиях острых американо-иранских противоречий ситуация глобального доминирования Соединенных Штатов, сложившаяся по окончании «холодной войны», являлась для Ирана стратегически неблагоприятной. Тегеран был вынужден иметь дело с целым спектром угроз и вызовов: на юге – с американским военным присутствием в регионе Персидского залива и коалицией арабских монархий, возглавляемой Саудовской Аравией, соперником Ирана в борьбе за влияние в исламском мире; на западе – с потенциальной нестабильностью в Ираке и традиционно сложными отношениями с Турцией; во второй половине 1990-х гг., на востоке – с вероятной консолидацией Афганистана под властью враждебного шиитскому направлению ислама движения «Талибан».
Соответственно, важным для Ирана становилось не допустить изоляции страны на северном направлении и предотвратить создание, в особенности под американским патронажем, противостоящих Тегерану альянсов в Закавказье и Центральной Азии. В этой связи сотрудничество с Россией, одним из основных для Ирана источников технологий, поставок вооружений и, пусть и ограниченной, международной поддержки, было для Тегерана существеннее, чем сомнительные приобретения от идеологической и политической экспансии в Центральной Азии, затрудненной к тому же преобладанием во всех странах региона ислама суннитского толка.
Преобладающим мотивом для центрально-азиатской политики Ирана стало стремление обеспечить для страны безопасность и экономические выгоды, включившись в международные отношения в регионе и признавая интересы и влияние России в Центральной Азии. Воздействие радикальной идеологии и внешнеполитической доктрины Исламской Республики на ее политику в Центральной Азии было, таким образом, ограничено обстоятельствами и прагматическими соображениями (cм.: [Her-zig, 2001; Ehteshami, 1997]).
Уже в начале 1992 г. Тегеран предложил странам Центральной Азии ряд проектов многостороннего сотрудничества. Иран был главным инициатором присоединения стран Центральной Азии и Азербайджана к Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В марте 1992 г. президент Ирана А.-А. Хашеми-Рафсанджани выдвинул идею создания региональной организации прикаспийских стран. Одновременно Тегеран предложил наладить углубленное сотрудничество в культурной сфере между персоязычными странами – Ираном, Афганистаном и Таджикистаном [Moinaddini, 1995; Скляров, 1996].
Иранские инициативы имели благоприятный пропагандистский эффект, способствуя созданию образа страны, проводящей рациональную и ответственную политику и заинтересованной в региональном сотрудничестве. Однако они были реализованы в слишком ограниченном масштабе, чтобы существенно содействовать решению основной задачи центрально-азиатской политики Тегерана. ОЭС, вынужденная находить наименьший общий знаменатель разнонаправленных интересов десяти стран-участниц, пополнила список организаций, погруженных в самореформирование и производящих преимущественно протоколы о намерениях. Прикаспийские страны благожелательно откликнулись на предложение Ирана, но противоречия вокруг статуса Каспийского моря и разработки его нефтяных ресурсов позволили им создать только ряд координационных комитетов, не объединенных в постоянно действующую структуру. Гражданские войны в Таджикистане и Афганистане вынудили Тегеран отложить на будущее проект сотрудничества персоязычных стран.
Межтаджикский конфликт поставил Иран перед необходимостью разрешить противоречие между идеологическими императивами, подталкивающими к поддержке Объединенной таджикской оппозиции (ОТО), и заинтересованностью в стабильности в Цен- тральной Азии и сотрудничестве с Россией. Хотя иранские религиозные фонды и консервативные политические круги оказывали финансовую (по некоторым сведениям, и военную) помощь ОТО, а иранская печать симпатизировала исламской оппозиции и негативно оценивала роль России в конфликте [Хрусталев, 1997. С. 53–54; Herzig, 2001. P. 176], официальный Тегеран, трезво оценив расстановку сил в Таджикистане и собственные возможности, проводил осторожную и взвешенную политику [Akiner, 2001. P. 49–50]. Иран попытался занять позицию равноудаленности от противоборствующих сторон, подчеркивая необходимость мирного урегулирования и акцентируя внимание на трагических гуманитарных и социальных последствиях конфликта. Во время гражданской войны Тегеран поддерживал тесные связи с таджикским правительством, а иранская гуманитарная помощь оказывалась обеим сторонам. Иран содействовал организации контактов между Россией и ОТО и, координируя усилия с российской дипломатией, внес весомый вклад в урегулирование конфликта, побуждая оппозиционные силы к компромиссу.
Из-за гражданской войны и затрудненности сообщения между Ираном и Таджикистаном, усугубившейся с продвижением во второй половине 1990-х гг. талибов на север Афганистана, двусторонние отношения между Тегераном и Душанбе в экономической и культурной сферах не получили в 1990-е гг. заметного развития. Иран выделил Таджикистану кредит в 50 млн долл., но отклонил просьбу Душанбе о ежегодном предоставлении финансовой поддержки [Новиков, 2004]. Таджикистану была оказана помощь в публикации учебников на фарси для таджикских школ и повышении квалификации таджикских дипломатов и банковских служащих 3. Иран профинансировал строительство в Таджикистане ряда мечетей, открытие нескольких религиозных школ и библиотек. В декабре 1997 г. министерства обороны двух стран заявили о намерении сотрудничать в подготовке военных кадров. В конце десятилетия стали обсуждаться проекты иранского участия в строительстве Сангтудинсокй ГЭС и автомобильных дорог в Таджикистане. Однако в целом масштабы идеологического влияния и экономического и культурного присутствия Ирана в Таджикистане оставались слишком ограниченными, чтобы оказывать воздействие на внешнюю политику Душанбе, определяемую военно-политической и экономической зависимостью от России.
Хотя Тегеран подчеркивал, что Таджикистан является для него «особым приоритетом» [Moinaddini, 1995. P. 60], в реалиях региональная политика Ирана сосредоточилась на обеспечении стабильных добрососедских отношений с Туркменистаном, единственной граничащей с Ираном страной Центральной Азии. Тегеран стремился поставить двустороннее взаимодействие на прочную экономическую основу, что сделало бы для Туркменистана невыгодным присоединение к враждебным Ирану альянсам и оказание дестабилизирующего воздействия на компактно проживающее в Иране туркменское меньшинство. Среди центрально-азиатских стран именно с Туркменистаном Иран поддерживал наиболее интенсивные политические контакты и осуществлял масштабные экономические проекты.
Первоочередной задачей стало развитие транспортного сообщения между двумя странами. Уже в 1992 г. началось строительство железной дороги Теджен – Се-рахс – Мешхед. С его завершением в мае 1996 г. у стран Центральной Азии появилась возможность выхода к Персидскому заливу через железнодорожную сеть Ирана. В октябре 1993 г. во время визита в Туркменистан А.-А. Хашеми-Рафсанджани на туркмено-иранской границе был открыт первый пограничный переход; к концу 1990-х гг. их число возросло до четырех. Началось развитие сети автодорог, связывающих Туркменистан и Иран. Между двумя странами было открыто автобусное сообщение и налажены грузовые и пассажирские перевозки по Каспийскому морю [Maleki, 2007].
В октябре 1993 г. Туркменистан и Иран подписали меморандум о строительстве трубопровода для экспорта туркменского газа в Турцию и Европу. Первоначально предполагалось, что пропускная способность туркмено-иранского газопровода со- ставит 31 млрд куб. м. в год 4. Однако проблематичность привлечения крупных инвестиций в проект с иранским участием и неопределенная позиция Турции вынудили Тегеран и Ашхабад ограничиться более скромной задачей. В июле 1995 г. Туркменистан и Иран заключили соглашение о строительстве газопровода Корпедже – Курт-Кюи, предназначенного для снабжения газом северных районов Ирана. Иран обязался профинансировать 80 % стоимости проекта, оцениваемой в 200 млн долл., и покупать 8 млрд куб. м. туркменского газа ежегодно в течение 25 лет, причем первые три года Туркменистан должен был поставлять газ в счет расходов, понесенных иранской стороной. В декабре 1997 г. Корпед-же – Курт-Кюи – первый газопровод, напрямую соединивший Центральную Азию с «дальним зарубежьем», – был введен в эксплуатацию [Жуков, Резникова, 2001. C. 320–321]. Его реальное значение, однако, уступало символическому: текущие поставки были слишком малы (около 2 млрд куб. м в год в конце 1990-х гг.), чтобы решить проблему экспорта туркменского газа, а в перспективе Иран, занимающий второе место в мире по объему запасов природного газа, вряд ли мог стать для Туркменистана значительным рынком сбыта.
Иран стал одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Туркменистана. Уже в начале 1992 г. Тегеран выделил Ашхабаду кредит в размере 50 млн долл. Иранские инвестиции в экономику Туркменистана составили в 1990-е гг. около 250 млн долл. [Месамед, 1998]. Иранская национальная нефтяная компания приняла участие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода в Туркменистане и получила контракт на нефтедобычу на каспийском месторождении Туркменбаши. В 1998 г. начался экспорт в Иран туркменской нефти «методом замещения»: в обмен на поставки нефти из Туркменистана на север Ирана эквивалентное количество иранской нефти отгружалось в пользу Туркменистана в Персидском заливе. В конце 1990-х гг. Иран и Туркменистан приступили к строительству плоти- ны и искусственного озера на пограничной реке Теджен.
В отношениях с Казахстаном Тегеран также сосредоточился на совпадающих экономических интересах, воздерживаясь от выражения недовольства в связи с широким присутствием в Казахстане американского капитала и не акцентируя внимания на различных подходах сторон к определению статуса Каспийского моря. В 1992 г. Иран предложил Казахстану экспортировать нефть в Иран «методом замещения». В мае 1996 г. после длительных переговоров было подписано соответствующее соглашение, предусматривающее ежегодные поставки в Иран 2 млн т казахстанской нефти. В мае 1997 г. Казахстан и Иран произвели «обмен» первой партией в 70 тыс. т нефти; затем, однако, поставки были приостановлены до конца 1990-х гг. из-за высокого содержания сернистых соединений в казахстанской нефти, затрудняющего ее переработку на иранских предприятиях, и финансовых разногласий сторон [Бражников, 2000]. Несмотря на высокую долю расходов на транспортировку в цене поставляемых товаров, Казахстан стал вторым после Туркменистана торговым партнером Ирана в регионе, экспортируя преимущественно черные и цветные металлы и зерно. Дальнейший рост торговли стороны связывали с реализацией транспортных проектов: модернизацией портов и развитием морского сообщения и строительством вдоль восточного побережья Каспия железной дороги, связывающей Казахстан, Туркменистан и Иран.
Единственной на центрально-азиатском направлении внешней политики Ирана страной, отношения с которой определялись устойчивой взаимной отчужденностью и недоверием, стал Узбекистан. Ташкент не упускал случая обозначить политические и идеологические разногласия с Тегераном и высказать подозрения относительно долгосрочных целей Ирана в регионе. Притязания Тегерана, пусть и проявляющие себя более в риторике, чем в действиях, на духовное лидерство в мусульманской общине и апелляции Ирана к общему культурному наследию персоязычных народов и исторической роли персидской цивилизации в Центральной Азии не могли не вызывать обеспокоенности Узбекистана с его сильной исламской традицией и значительным тад- жикским меньшинством. Реализованный при содействии России и Ирана план урегулирования межтаджикского конфликта ограничил влияние Ташкента в Таджикистане. Тегеран, со своей стороны, усматривал опасность в проамериканском крене узбекской внешней политики. Иран и Узбекистан не имели значительных совпадающих экономических интересов, которые могли бы сгладить политические расхождения.
Хотя в 1992–1993 гг. Узбекистан и Иран обменялись визитами президентов, с 1994 г. двусторонние отношения вступили в период длительного охлаждения. Узбекские власти публично выражали обеспокоенность в связи с расширением иранского присутствия в Туркменистане и стали наиболее резким критиком роли Ирана в Таджикистане [Каримов, 1994]. Тегеран, в свою очередь, осуждал Узбекистан за вмешательство во внутренние дела Таджикистана, дискриминацию таджикского меньшинства и намерение развивать отношения с Израилем [Menashri, 1998. P. 87]. К середине десятилетия Ташкент свернул культурное сотрудничество с Ираном. В 1995 г. Узбекистан стал одной из двух стран мира (наряду с Израилем), одобрившей введение американских санкций против Ирана. Ташкент скептически отреагировал на открытие туркмено-иранской железной дороги, которое Тегеран объявил крупным достижением общерегионального масштаба [Бен-Цолар, 1997]. Только в конце 1990-х гг., под влиянием обозначившихся перспектив смягчения напряженности в американо-иранских отношениях, появились признаки интенсификации политического и экономического взаимодействия между Узбекистаном и Ираном 5 .
К началу 2000-х гг. политика Ирана в Центральной Азии принесла неоднозначные результаты. С одной стороны, Ирану удалось избежать угрозы изоляции на центрально-азиатском направлении. Неконфронтационная, прагматичная политика Тегерана способствовала, особенно на фоне экстремизма движения «Талибан», созданию благоприятного образа Ирана в регионе. По сравнению с началом 1990-х гг.,
Иран стал в значительно меньшей степени восприниматься как источник политической и идеологической угрозы. Благодаря достигнутому тесному характеру ирано-туркменского взаимодействия, была существенно снижена вероятность присоединения Ашхабада к американской политике «сдерживания» Ирана.
С другой стороны, позиции Ирана в Центральной Азии оставались неустойчивыми, а его влияние в регионе не соответствовало уровню, необходимому для обеспечения политических и экономических интересов страны. Реализация крупных проектов транспортировки центрально-азиатской нефти и газа через Иран (газопровода Туркменистан – Иран –Турция и нефтепровода Казахстан – Туркменистан – Иран) была фактически заблокирована Соединенными Штатами. Заключение в 1998 г. Россией и Казахстаном соглашения о разграничении дна северной части Каспийского моря, не признанного Тегераном, свидетельствовало о том, что Ирану не удастся противодействовать масштабной разработке каспийских нефтегазовых ресурсов и, соответственно, дальнейшему расширению присутствия американских компаний в прикаспийских странах. В конце 1990-х гг. только Туркменистан склонен был поддерживать подход Тегерана к определению статуса Каспия; впрочем, Россию и Иран по-прежнему объединяло категорическое неприятие идеи строительства трубопроводов по дну моря.
С разгромом движением «Талибан» осенью 1998 г. сил шиитов-хазарейцев, традиционно ориентирующихся на Тегеран, ослабло влияние Ирана в Афганистане. Жестко конфронтационные отношения между Ираном и талибам лишали Тегеран возможности внешнеполитического маневра, что, в условиях, когда Ашхабад наладил сотрудничество с талибами, а Ташкент в конце 1990-х гг. приступил к поиску с ними компромисса, начало неблагоприятно сказываться на позициях Ирана в Центральной Азии.
Столкнувшись в 1990-е гг. со значительными экономическими трудностями и испытывая острую потребность во внешних заимствованиях и инвестициях, Иран мог направить на развитие экономических связей со странами Центральной Азии крайне ограниченные ресурсы. Торговля Ирана со странами региона, при общей положительной динамике (ее объем вырос в 1993–2000 гг. с 89 млн долл. до 605 млн долл., а доля Центральной Азии в товарообороте Ирана увеличилась за это время с 0,2 до 1,3 %), была замкнута на Туркменистане (55 % общего объема в 2000 г.) и Казахстане (39 %) и отличалась четырехкратным превышением импорта над экспортом. Лишь для Туркменистана Иран стал одним из ведущих торговых партнеров (7,7 % туркменского товарооборота в 2000 г.) 6.
В конце 1990-х гг., после избрания президентом Ирана умеренно настроенного М. Хатами, во внутренней политике Исламской Республики наметилась тенденция к политической либерализации и экономическим реформам, направленным на сокращение государственного контроля над экономикой и привлечение иностранных инвестиций. Из Тегерана стали поступать осторожные сигналы о готовности к урегулированию противоречий с США, а политические и экономические связи между Ираном и ведущими европейскими странами заметно интенсифицировались. В американских и европейских экспертных кругах получили распространение оценки, не оставшиеся незамеченными соседями Ирана, согласно которым американо-иранские отношения эволюционируют в сторону нормализации (см., например: [Sick, 2001. P. 206–207]). Выход Ирана из ситуации стратегической и экономической полуизолированности создал бы более благоприятные условия для обеспечения интересов и расширения влияния Тегерана в соседних регионах, в том числе в Центральной Азии. Материализация этой перспективы зависела от судьбы реформ в Иране, способности умеренных кругов определять внешнюю политику страны и соотношения сил между сторонниками и противниками диалога с Тегераном в американской политической элите.
IRANIAN POLICY IN CENTRAL ASIA IN THE 1990s