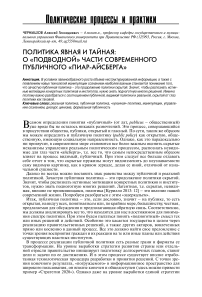Политика явная и тайная: о «подводной» части современного публичного «пиар-айсберга»
Автор: Чернышов Алексей Геннадиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 8, 2015 года.
Бесплатный доступ
В условиях лавинообразного роста неструктурированной информации, а также с появлением новых технологий манипуляции сознанием наиболее важным становится понимание того, что зачастую публичная политика - это продолжение политики скрытой. Значит, чтобы распознать истинные мотивации конкретных политиков и институтов, нужно знать подноготную многих решений. Именно поэтому важно разобраться с соотношением публичной, видимой политики и реальной, скрытой от глаз политики как таковой.
Реальная политика, публичная политика, "кухонная" политика, манипуляции, управление сознанием, дискурс цинизма, формальная публичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170168073
IDR: 170168073
Текст научной статьи Политика явная и тайная: о «подводной» части современного публичного «пиар-айсберга»
В самом определении понятия «публичный» (от лат. publicus – общественный) уже вроде бы не осталось никаких разночтений. Это процесс, совершающийся в присутствии общества, публики, открытый и гласный. По сути, таким же образом мы можем определить и публичную политику ( public policy ) как открытую, общественную, имеющую социальную направленность. Однако, как это парадоксально ни прозвучит, в современном мире становится все более важным оценить скрытые механизмы управления реальным политическим процессом, распознать невидимые для глаз части «айсберга», т.е. все то, что самым непосредственным образом влияет на процесс видимый, публичный. При этом следует все больше отдавать себе отчет в том, что скрытые пружины могут видоизменять до неузнаваемости саму видимую картинку, как в кривом зеркале, делая ее иной, отличной от изначальной сущности.
Далеко не всегда можно поставить знак равенства между публичной и реальной политикой. Зачастую публичная политика – это продолжение политики скрытой. Значит, чтобы распознать истинные мотивации конкретных политиков и институтов, нужно знать подноготную многих решений. Латентная, т.е. скрытая, невидимая, внешне не проявляющаяся, политика [ Курилло 2013: 12 ] — это явление нашей современной жизни. Попробуем разобраться с этим «зазеркальем».
Итак, публичная политика – это, если дословно, значит – на публике, то есть открытая, на виду у всех, понятная всем или, по крайнее мере, большинству, честная, предлагаемая для обсуждения и предполагающая обратную связь. Соответственно, мы должны анализировать все то, что находится для нас в достижимом для понимания спектре политики. При этом будем пытаться понять «подноготный» смысл тех или иных решений и действий. Особенно это касается государства в целом через реализацию правительственных решений, а также других акторов, вовлеченных прямо или косвенно в данный процесс. Все это должно найти свое преломление с точки зрения восприятия граждан и их реакции на те или иные планы или действия существующих властных институтов.
В процессе реализации публичной политики есть разные грани и форматы ее трансформации. На уровне выработки стратегии развития страны или отдельной отрасли правительство инициирует подготовку долгосрочных планов, ставит цели и задачи по ее достижению. И в этом процессе существует вполне отработанная технологическая процедура разработки и принятия решений. С точки зрения конечного результата, «погружаемого» в информационное пространство для широкого пользования, он вполне конечен и общедоступен (здесь можно привести пример «Стратегии 2020»). Однако даже на уровне выработки единой стратегии развития страны на длительную перспективу граждане порой не имеют возможности ни лично участвовать в обсуждении представленного проекта документа, ни использовать механизм контроля для корректировки определенного курса при его осуществлении. Конечный потребитель информации получает зачастую лишь итоговую статичную картинку, приготовленную для него загодя. Ни видоизменить ее кардинально, ни даже добавить «штришок» своей «краски» конкретный индивид не может. Он лишен возможности творчески влиять на процесс выработки и принятия решений. Таким образом, уже на методологическом уровне становится очевидным, что созданная система запрограммирована на «формальную публичность». Иными словами, власть создает предпосылки для развития многих новых технологических решений, позволяющих отдельному человеку поглощать значительно большее количество информации. Она инициирует принятие и продвижение многих решений, но при этом не особо стремится поделиться с конечным пользователем причинами и мотивациями, которые побудили ее принять именно такое решение. Также власть и не проявляет интереса (за редким исключением, и то, как правило, в период опасности для самой власти) к установлению обратной связи для практического использования интеллектуальных наработок общества в своей непосредственной деятельности. Именно поэтому оказывается, что многие решения, идущие в фарватере публичной политики, реализованы по форме вполне респектабельно, но по существу никакого ценностного приращения не дают. Об опасности «формальной демократии» очень точно и убедительно писал русский философ Иван Ильин. В 1951 г. в своей работе «Предпосылки творческой демократии» он отмечал опасность политического течения, которое назвал «фанатизмом формальной демократии» [Ильин 2007: 177]. Он писал о формальной демократии, которая сводит все государственное устройство к форме всеобщего и равного голосования, отвлекаясь от качества человека и от внутреннего достоинства его намерений и целей, примиряясь со свободой злоумышления и предательства, сводя все дело к видимости «бюллетеня» и к арифметике голосов (количество).
Все это в конечном итоге переводит активность граждан в формат неучастия как формы протеста и «внутренней эмиграции» при условии, что человек не хочет покидать свою страну и конкретную территорию, на которой живет. В дальнейшем это способствует еще большей атомизации всего общественного пространства и формированию молчаливого общества, предугадать реакцию которого на те или иные события становится все более сложно.
Российское общество уже изрядное время прожило в режиме имитаций. Имитацией может быть все: госпрограммы, достижения, прорывы, уникальные технологии, ценности. Новая реальность предполагает честный диалог. В противном случае публичная политика из реальной превращается в бутафорскую, иллюзорную, манипулятивную. Если нормальная общественная публичность отсутствует, а нарастает элемент высокопрофессионального точечного зомбирования, это все вновь загоняет человека на «кухню», вынуждая строить горизонтальные коммуникации в режиме «сарафанного радио».
Содержание данных процессов особенно хорошо видно, если наблюдать и анализировать процессы, связанные с выборами. Причем выборами не только на конкретном избирательном участке, а о широком выборе, который фактически каждодневно происходит в процессе принятия властными штабами собственных решений. Сама же публичная политика в таком формате – не что иное, как «операция прикрытия», в ходе которой истинные цели власти и разных групп влияния и механизмы их достижения скрыты от общественности за плотной завесой тумана. Сама по себе открытость, реализуемая в формате телепередачи «Дом-2», на деле формирует стойкий дискурс цинизма.
Служить противоядием от подобного рода кулуарных практик может как ценностная ориентация самой элиты, принимающей определенные решения в интересах данного сообщества, так и критическое и аргументированное в своем посыле отношение граждан. Само по себе бурное развитие информационного общества и повышение открытости публикуемых и визуализированных данных не приводит автоматически к системному рассмотрению сути и истинности принятых реше- ний. «Электронная демократия» как спонтанное участие и вовлеченность граждан в интернет-миры, появление возможностей оперативного обмена информацией даже с чужим для тебя субъектом, а также реагирования на те или иных события еще не означают появления ответственного избирателя с системным взглядом на происходящие события и адекватной реакцией для выработки созидательной повестки дня, равно как и не влияет напрямую на сам процесс принятия решений.
Мир все больше входит в состояние онлайн. Но сам по себе онлайн-мир еще не означает появления стойких демократических оснований, равно как и выверенной, открытой и честной публичной политики. Можно согласиться с авторами, которые пишут о том, что «становление публичной политики – это необходимое условие становления демократии участия, которая должна прийти на смену электоральной демократии, демократии голосований». При этом естественным образом подчеркивается важность того, что «демократия голосования будет дополнена практикой общественного участия, способной превратить закрытую, келейную государственную политику в процесс открытый, прозрачный и подотчетный населению – тогда мы будем иметь дело с политикой публичной. И это будет качественно иной уровень развития демократии» [ Никовская 2008 ] . В этой связи крайне важно понимать процесс развития конкретного общества, исходя из ценностных оснований движения, осмысления самой власти с точки зрения ценностного императива [ Чернышов 2014 ] и понимания ценностей, которые культивируются и поддерживаются всем обществом, соотнесения публичных ценностей с провозглашаемой и реально реализуемой публичной политикой [ Публичные ценности... 2014: 104 ] .
Не менее важно и осмысление того, как развивается само государство в качестве политического института – как государство-корпорация, как государство-учреждение или как аналог государства-мафии, или «теневое государство». Если начинает доминировать последний образец, то нужно понимать, что функции государства все больше узурпируются конкретными группами влияния и система неформального согласования расцветает пышным цветом. К тому же крен в сторону складывания фактически кастовой структуры общества приводит к тому, что ориентир в политической деятельности перетекает в сторону более скрытого и кулуарного построения самого государства.
В то же время наиболее здравомыслящее экспертное сообщество хочет видеть совершенно иную публичную политику, а именно новый уровень политической и профессиональной компетенции, возможность договариваться по сути дела не только с учетом интересов двух сторон, а с учетом общественного мнения, т.е. фактически выстраивать действительно открытую, ответственную публичную политику, за ширмой которой не было бы недоговоренностей и тайных смыслов.
Публичная политика должна стать способом проявления общественных интересов, а не проявлением деятельности конкретных политических фигур. Только в этом случае форма непрямой демократии фактически будет способствовать тому, что будут приниматься адекватные политические решения с учетом мнения большинства. А для этого общество должно получить право на свои ответственные поступки и мнения, например, право законодательной инициативы на федеральном (при сборе 100 тысяч подписей) или на региональном (при сборе 10 тысяч подписей) уровне; возможность инициировать парламентские и прокурорские расследования, а также референдумы на национальном и местном уровне с достижением конкретных результатов при наличии определенных общественных запросов.
В результате углубления сути явлений и процессов, связанных с расширением информационного общества, мы все больше попадаем в зависимость от развития различных современных технологий. Фактически Интернет стал «первой попыткой формализации человеческих отношений» на глобальном уровне. При этом уже достаточно рельефно видны этапы движения. Первичный этап формирования сети – это связывание самой информации. Сегодня Интернет – это все больше социальные сети, которые связывают уже вполне конкретных людей и группы интересов. Завтра – это фактически развитие семантической сети, которая своим острием будет направлена на интеграцию разного рода знаний [ Хапров 2013: 48, 53 ] .
Надо только понять, что коммуникации могут (и уже становятся) оружием «тех, кто знает [находясь за ширмой и скрытый от глаз общества. – А.Ч.], чего хочет» [Коровин 2014: 179]. Они могут стать полноценным ресурсом и для формирования общества знаний, и меритократического построения государства. Как говорится, выбор еще окончательно не определен. С одной стороны, вся логика развития современных процессов показывает, что мир усложняется и все больше входит в состояние нелинейной динамики. В результате требования к политике и ее открытости и системности также существенно возрастают. Те, кто «работает в сферах с высокоразвитыми системами знаний, обычно обладают более длинными и слаженными цепочками действий. То есть, одно действие становится предпосылкой для следующего, которое, в свою очередь, также порождает новое действие. Таким образом, каждый шаг становится продолжением предыдущего и одновременно началом следующего». С другой стороны, это может привести к попытке применить воздействие по подчинению своей воле и ценностным ориентациям. Здесь применимо модное понятие «мягкой силы» как возможности добиваться желаемого «на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения или выплат» [Ларина, Овчинский 2014: 62]. На самом же деле она означает добровольно-принудительный характер давления по принципу: «Кто не с нами, тот против нас». При этом еще и требуется принять ценности «свободного мира». Соответственно, на первый план выходит идеология, манипуляции. На уровне глобальной, мировой политики это особенно становится видно.
Сегодня «политические сети» – это еще и всепожирающий спрут, который может погубить в своих объятиях любого, кто не сумеет противостоять ему. Поэтому формирование основных методологических принципов функционирования власти и управления ею становится насущной потребностью. Потому что «одно дело – понять власть, знать, как ее распознавать, каковы ее источники, какие стратегии и тактики использовать для ее реализации, как ее потерять. И совсем другое дело — уметь применять эти знания на практике» [ Пфеффер 2014: 179, 395 ] . То есть, общество должно трезво оценивать истинные и скрытые мотивы властных построений и уметь вырабатывать не просто иммунитет, а именно механизм общественного наведения порядка и выстраивания позитивных основ жизнедеятельности. Наши знания о сетевых политических коммуникациях, о «сетевой политике» [ Сморгунов, Шерстобитов 2014: 190 ] могут помочь разобраться с данными феноменами и предпринять адекватные меры. При этом не просто согласиться с констатацией и описанием той модели управления и поведения, что предлагает власть. Порой ведь сегодня это вбрасывание в сети нужной дозированной информации, которую препарируют по заданному сценарию привлеченные для этих целей креативные «умельцы». Они делают нужную картинку и тем самым проводят имитацию действием. Формируют необходимую привлекательную для глаз форму, хотя содержание (первичное и вторичное) может быть иным по смыслу, чем то, которое сообщается во всеуслышание. Это приводит к выхолащиванию смысла, к забвению истинной роли публичной политики.
Социальный эгоизм и политическая демагогия властвующей элиты, фарисейство [ Империя фарисеев... 1994: 3 ] порой приобретают совершенно гипертрофированные, мало контролируемые крайние формы проявления.
В этих условиях публичная политика сама по себе зачастую превращается в форму психологического насилия, когда навязываются и проталкиваются в информационный эфир нужные сюжеты и идеологические клише. «По телевидению открытой идеологической обработки не ведут... Телевидение лишь мягко подталкивает вас к определенному образу мыслей... Главное правило хитрой пропаганды гласит: бросайте основные требуемые намеки, ежедневно вещайте исподволь, тонко лгите – и телезрители неизбежно станут принимать вашу ложь и ахинею как нечто само собой разумеющееся... Хорошая система пропаганды не объявляет о своих принципах или намерениях». В итоге мы опять оказываемся в ситуации, когда истинные намерения тех, кто находится «за кадром» и управляет телевизионной кнопкой, оказываются скрытыми от глаз потребителя. Тем самым граждан пытаются загнать в «умственное рабство». «Каждый раз, когда люди хотели обрести свободу, чтобы их не могли поработить, перебить или подвергнуть репрессиям, возникали новые способы правления. Этими способами народ пытались загнать в различные виды умственного рабства, чтобы он безоговорочно принимал навязываемую идеологию и не задавал никаких вопросов» [Холмский 2014: 150-151].
Такого рода «политизация» населения, когда предпринимается попытка исподволь навязать определенное отношение к происходящим процессам, оборачивается своей обратной стороной – полной или частичной «деполитизацией» масс. Решения власти, которые должны по логике вещей формировать ответственного гражданина, на самом деле формируют личность, которая в действительности бежит от свободы, ищет себе поводыря и передоверяет ему право на принятие окончательного решения. Такого рода публичная политика как бы конституирует определенный статус-кво пропагандистских решений. Массы, по словам Зигмунда Фрейда, начинают все больше требовать иллюзий, без которых они уже не могут жить и за которыми оказывается удобным спрятаться в силу все большего усложнения и увеличения динамики развития жизненных процессов.
Происходит архаизация и примитивизация сложных современных процессов за счет принятия определенных решений и административного управления сознанием.
Выходит, что скрытая часть публичной политики – это политика «двойного дна», красивый фасад, за которым все те же самые несуществующие «потемкинские деревни». Все происходит примерно так же, как в экономике, – офшоры в качестве «параллельной» системы движения финансовых потоков, «серые» схемы ухода от налогов и т.д. Но мы знаем, что «политика – это концентрированное выражение экономики». А значит, все те же экономические скрытые механизмы действуют и в политической сфере – в системе неформальных отношений принятия решений – через родственников, близких знакомых или сверхлояльных и подтвердивших свою преданность хозяину персонажей. Усиление социального неравенства еще больше начинает влиять на скрытые мотивации индивидов с точки зрения деполитизации [ Социальное неравенство... 2007 ] , усиливая элемент непредсказуемости.
Объектом манипуляций в последнее время все чаще становится молодое поколение [ Елишев 2015 ] . В итоге многие представители молодежи пытаются жить вообще как бы вне политики, надеясь абстрагироваться от ее реальной практики и наивно веря, что она их обойдет стороной. При этом значительная доля возможного выражения мнений через легальную политическую или общественную деятельность уходит в неформальную сферу, и в результате формируется целое движение аполитичных граждан [ Политика аполитичных... 2015 ] . В итоге молодую и активную часть населения накрывает плотная пелена гламура, который может заворожить своей сказочной красотой, но может и шокировать, превращаясь в вульгарную показуху [ Гандл 2011 ] . Уже сейчас можно констатировать, что с точки зрения влияния на умы граждан следует порой изучать не конкретного правителя, а эпоху Аллы Пугачевой с ее многочисленными «фабриками» тщеславия, или Ксении Собчак с ее «Домом-2». А эпохи Гагарина и Королева незаметно прошли.
Развивающиеся вширь и вглубь социальные сети также все больше попадают под невидимое внешне воздействие и обработку «идеологических штабов», и не случайно они уже рассматриваются как средство публичной коммуникации и влияния на формирование общественного мнения 1 . Только вот кто, какую информацию и в каком объеме уже искусственно вбрасывает в сеть, желая получить от нее не позитивный и созидательный, а именно нужный отклик?
Требуется механизм, критерии оценки пропускания всей публичной политики в ее явной и скрытой форме через чистилище этических императивов. Ибо когда конкретный человек начинает все более активно общаться с овеществленной массой в сетях, этические категории все больше растворяются. И тут оказывается, что самим политикам не особо-то и нужно переживать за отдельного индивида, а сама по себе проблема толпы оказывается осязаемой лишь при условии опасности для действующей власти.
Возможности кристаллизации коллективного разума существуют, но постоянно подвергаются массированной атаке с высоты властного олимпа. Это как «звездные войны», когда силе добра очень трудно противостоять всепоглощающей темной материи. При этом состоянии современного общества, находящегося в состоянии внешних бифуркаций и поломок внутреннего сознания, особенно важна роль экспертного сообщества, которое может и должно сформулировать и предложить обществу иные альтернативы развития, в т.ч. такие подходы, при которых «существенным элементом нового сознания станет этика потребительского самоограничения, рассмотрение престижного потребления и гиперпотребления не только как расточительного, но и безнравственного» [Мегатренды... 2014: 54].
Еще раз подчеркнем, что значительное число факторов, влияющих на управление реальным политическим процессом, не видны воочию и скрыты от исследователя и конкретного гражданина за высокой ширмой всевозможных «перекрытий». Наладить прямой диалог между ними, сделать достоянием гласности кулуарные варианты таких практик, привнести в основания данного взаимодействия четкие этические и культурологические аспекты становится ответственной задачей как для науки, так и для всей системы публичного политического управления.
Без оценки глубинной части «айсберга», скрытого от глаз под толщей воды, невозможно дать объективную картину происходящих сегодня изменений. Это становится тем более важным в условиях устойчивой нестабильности, бифуркации современного мира. Прежние «правила игры» уже не действуют. Новые еще не выработаны, и возникает вопрос, по каким канонам будет строиться современная политика и вся общественная жизнь в условиях «виртуализации» социальнополитического пространства. При этом хрупкое состояние современного общества подвергается постоянному давлению новых соблазнов и рецептов излечений «таблетками счастья» со стороны власти. В условиях поиска новых качественных точек роста грань между варварством и цивилизацией обнажилась со всей своей определенностью. Обыденное сознание подсказывает, что тут, равно как между любовью и ненавистью, порой существует всего один шаг.
Знание, возможность выявить скрытые механизмы управления реальным политическим процессом и выработать пути по их нейтрализации – все это может помочь в осмыслении современных реалий и выработке действенных вариантов новых созидательных практик, отличных от «измененной вторичности» [ Турен 1998: 11 ] , а также в формировании новых действующих лиц общества, учитывающих потребности нравственного императива.
Список литературы Политика явная и тайная: о «подводной» части современного публичного «пиар-айсберга»
- Гандл С. 2011. Гламур. М.: Новое литературное обозрение. 384 с
- Империя фарисеев. Социология и психология диктатуры (под ред. С.И. Барзилова). 1994. Саратов: Приволжское изд-во. 400 с
- Елишев С. 2015. Молодежь как объект социализации и манипуляций. М.: Канон+. 320 с
- Ильин И.А. 2007. Национальная Россия: наши задачи. М.: Алгоритм». 464 с
- Коровин В. 2014. Третья мировая сетевая война. СПб.: Питер. 352 с
- Курилло В.Е. 2013. Латентная политика. Политическая латентология. М.: Спутник+. 722 с
- Ларина Е., Овчинский В. 2014. Кибервойны ХХI века. М.: Книжный мир. 352 с
- Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке. 2014. (под ред. Шаклеиной, А.А. Байкова). М.: Аспект Пресс. 448 с
- Никовская Л.И. Публичная политика в современной России: между корпоративно-бюрократическим и гражданско-модернизаторским выбором. Доступ: http://www.civisbook.ru/files/File/Nikovskaya_publ.pdf
- Политика аполитичных: гражданские движения в России 2011-2013 гг. 2015. Новое литературное обозрение. 480 с
- Публичные ценности и государственное управление. 2014. М.: Аспект Пресс. 400 с
- Пфеффер Д. 2014. Власть, влияние и политика в организациях. М.: Манн, Иванов и Фербер. 464 с
- Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С. 2014. Политические сети. Теория и методы анализа. М.: Аспект Пресс. 320 с
- Социальное неравенство и публичная политика. 2007. М.: Культурная революция. 332 с
- Турен А. 1998. Возвращение человека действующего. М.: Научный мир, -204 с
- Хапров С. 2013. Цифровой коммунизм. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия». 184 с
- Холмский Н. 2014. Система власти. М.: КоЛибри. 256 с
- Чернышов А.Г. 2014. Власть как ценность. -Власть. № 9. С. 42-49