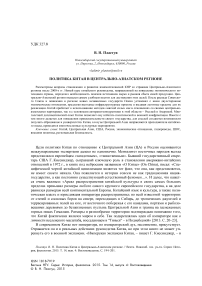Политика Китая в Центрально-Азиатском регионе
Автор: Пластун Владимир Никитович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены вопросы становления и развития взаимоотношений КНР со странами Центрально-Азиатского региона после 2000-х гг. Новый курс китайского руководства, направленный на повышение экономического потенциала страны, определил необходимость поисков источников сырья и рынков сбыта своей продукции. Центрально-Азиатский регион оказался самым удобным местом для достижения этих целей. После распада Советского Союза и появления в регионе новых независимых государств Пекин установил с ними двухсторонние экономические отношения, предлагая выгодные инфраструктурные проекты и выдавая льготные кредиты для их реализации. Китай прибегает к использованию методов «мягкой силы» как в отношениях со своими центральноазиатскими партнерами, так и с основными акторами-конкурентами в этой области - Россией и Америкой. Многолетний дипломатический опыт Китая позволяет ему избегать политической и военной конфронтации. Вместе с тем много делается для повышения привлекательности своего государства, для соседей создаются возможности получить образование в университетах Китая, а в вузы Центральной Азии направляются преподаватели китайского языка, проводятся многочисленные культурные мероприятия.
Китай, центральная азия, сша, Россия, экономические отношения, газопроводы, шос, внешняя политика, региональная безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/147219321
IDR: 147219321 | УДК: 327.8
Текст научной статьи Политика Китая в Центрально-Азиатском регионе
Цели политики Китая по отношению к Центральной Азии (ЦА) и России оцениваются международными экспертами далеко не однозначно. Менталитет восточных народов всегда представлялся европейцам «загадочным», «таинственным». Бывший государственный секретарь США Г. Киссинджер, сыгравший ключевую роль в становлении американо-китайских отношений в 1972 г., в книге под неброским названием «О Китае» (On China), писал: «Специфической чертой китайской цивилизации является тот факт, что она, как представляется, не имеет своего начала. Она появляется в истории совсем не как традиционная нация-государство, а как постоянно существующий естественный феномен…». И далее, что кажется очень важным: «Ареал распространения китайской культуры в своих самых больших пределах превышал размеры любого самого крупного европейского государства, а на деле равнялся размерам всей континентальной Европы. Китайский язык и культура, а также политическая власть и юрисдикция императора распространялись по всей известной территории: от степей и сосновых боров на севере, переходящих в Сибирь, до тропических джунглей и террасированных полей на юге, от восточного побережья с его каналами, портами и рыболовецкими деревнями до безжизненных пустынь Центральной Азии и границ на заснеженных горных пиках Гималаев. Размеры и разнообразие территории подтверждали понимание того, что Китай фактически являлся миром в себе. Так подкреплялась идея об императоре как о личности вселенского масштаба, восседающем в “Тянься” – в Поднебесной» [2013. С. 20–23].
В современном Китае нет императора, но императорский дух, несомненно, присутствует. Отражается он и в реальных действиях руководства Китая, но при этом никто не может упрекнуть его в военной экспансии. «Имперская экспансия Китая, – пишет Г. Киссинджер, – в
Пластун В. Н. Политика Китая в Центрально-Азиатском регионе // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 194–201.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 4: Востоковедение
историческом плане представляла собой скорее медленное проникновение, чем покорение», а погружение в китайскую культуру неудачливых завоевателей заканчивалось присоединением территории захватчиков к китайским владениям [Там же. С. 573]. Сегодня можно уверенно констатировать, что в своей внешней политике Китай продолжает успешно применять те же, вполне легитимные методы, которые в современной политологии получили название «мягкой силы».
Наглядный пример использования этого вида экспансии – отношения со странами ЦА. Директор по исследованиям Норвежского Нобелевского института О. А. Вестад пишет: «В отношениях между Китаем и всеми среднеазиатскими республиками на первый план в качестве локомотивов выходят экономические планы и потребности… Во время экономического кризиса 2008 года помыслы многих китайских специалистов по планированию государственного и частного секторов сосредоточились на выходе к богатым природным ресурсам Средней Азии» [2014. C. 547].
Прошли годы, подступает новый виток мирового кризиса, и руководство КНР адаптируется к изменению обстановки в мире и регионе. Большинство исследователей отношений КНР с ЦА упоминает осторожность и определенную уклончивость китайских представителей при обсуждении вопросов, решение которых может повлиять на отношения с третьей стороной. В принципе с таким подходом следует согласиться, поскольку интерес Китая к региону ЦА, как считает проф. Ш. Арифханов, «больше всего связан с обеспечением национальной безопасности и рассчитан на будущее». Китай всегда опасался долгосрочного присутствия иностранных военных сил вблизи своих западных рубежей. Ранее это была самая протяженная граница с Советским Союзом, сейчас – с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном 1. Граница с Афганистаном составляет всего 76 км, но обстановка в Исламской Республике, где продолжается война с участием натовских войск, не позволяет расслабиться. Пекин тревожит также ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), стабильность которого нарушается вылазками сепаратистов [Арифханов, 2008. С. 29].
Как в Пекине объясняют расстановку геополитических сил и цели основных акторов в ЦА? Китайские аналитики (и не только они) считают, что в настоящее время в богатом углеводородами и полезными ископаемыми регионе усиливается конкуренция между США, ЕС, РФ и КНР.
Газета «Жэньмин жибао» (русское издание) сообщила о том, что 7 сентября 2013 г. Си Цзиньпин, выступая в Университете им. Н. Назарбаева в Астане, «выдвинул идею об экономическом поясе Шелкового пути, нацеленного на продвижение межрегионального развития, сотрудничества и процветания». Говоря о различиях в стратегиях Китая, России и США в Центральной Азии, Председатель КНР сформулировал подходы этих держав следующим образом:
-
• США намеревались осуществить реализацию плана «Нового Шелкового пути» с центром в Афганистане, объединив Центральную и Южную Азию, страны Закавказья, Монголию и даже Синьцзян. Эта программа – «важная составная часть американской стратегии по “возвращению” или “восстановлению равновесия” в АТР»;
-
• Россия выдвигала идею создания «Евразийского [экономического] союза», создавая «стратегическую опору для восстановления страны и статуса державы»;
-
• Китай предложил создать «Экономический пояс Шелкового пути», осуществив соединение культуры и экономики. Осуществление этого проекта позволит создать евразийскую экономическую зону, которая будет включать в себя Китай, Центральную Азию и Европу.
По словам Пань Гуана, директора Центра изучения ШОС Шанхайской АОН, эта концепция отражает «инклюзивное развитие КНР, а также позиции развития страны на основе взаимной выгоды». В его рамках могут свободно сотрудничать и ШОС, и ЕЭС.
Читая объяснения Пань Гуана, создается впечатление, что он играет «в две руки». С одной стороны, он заявляет, что не исключается и американский план, поскольку китайская идея «предполагает объединение стран-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС на основе Шелкового пути». С другой стороны, чтобы сбалансировать возможные противоре- чия, он упрекает американцев в том, что те «хотят управлять Афганистаном, но не желают вкладывать деньги, надеются, что средства будут предоставлены близлежащими к Афганистану государствами». О российском плане развития китайский ученый говорит лишь то, что он направлен на «сохранение лидирующей позиции РФ на постсоветском пространстве» и, «главным образом, предполагает союз бывших советских республик» 2.
Подключенный к обсуждению проблемы Цзян И, зам. директора лаборатории по изучению российской дипломатии Института России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР, уточняет: 1) «со стратегической точки зрения, выдвинутая Россией идея “Евразийского союза” предполагает объединение Центральной Азии»; 2) «США относительно недолго в регионе, поэтому их стратегическая направленность, главным образом, нацелена на укрепление позиций в Центральной Азии»; 3) Китай учитывает, что Центрально-Азиатский регион связан с безопасностью государства и «надеется путем расширения регионального взаимодействия стимулировать экономическое развитие западных районов страны». Следовательно, создание «экономического пояса Шелкового пути» – «это попытка соединить Центральную, Восточную, Южную и Западную Азию различными способами экономического сотрудничества» 3.
В общем, китайские специалисты доказывают исключительную выгодность для всех участников транспортно-энергетического проекта «Экономический пояс Великого Шелкового пути», продвигаемого КНР. Но с этим согласны далеко не все эксперты. Например, З. Мураталиева предупреждает, что «страна, которая инициирует и спонсирует строительство трансконтинентальных магистралей, фактически устанавливает “внешний контроль” над производственными возможностями стран-участниц» 4. К фактору такого контроля относится и экспорт рабочей силы из Китая в ЦА, что позволяет Пекину не только обеспечить «контроль над перемещением товаров, услуг, капиталов, людей, но и значительно расширить демографическое и, следовательно, геополитическое присутствие в той или иной стране». Характерный штрих: Китай предоставляет странам ЦА грантовые и кредитные льготы при условии, что проекты будут осуществлять китайские компании силами китайских рабочих.
З. Мураталиева обращает внимание на то, что «сотрудничество с Таможенным союзом обеспечивает доступ китайским товарам на 170-миллионный рынок (стран-членов Таможенного союза) с минимальными бюрократическими издержками в контексте таможенного контроля». В то же время, отмечает эксперт, «представляется, что Китай стремится предотвратить наращивание мощи России в качестве “инфраструктурного гиганта” в регионе, так как сам преследует эту цель». По ее сведениям, Пекин отказался от выплаты аванса на строительство газопровода «Сила Сибири», так как российская сторона не желала производить закупки необходимых для строительства труб, товаров и услуг в Китае, поскольку в этом случае вложенные при строительстве средства фактически вернулись бы обратно, снижая экономические выгоды для России 5.
С объективной точки зрения, считают некоторые эксперты, проект «Экономического пояса Великого Шелкового пути» – явный конкурент ЕАЭС, который сегодня (тоже объективно) содействует процессу улаживания межгосударственных противоречий между странами ЦА и созданию единого экономического пространства. Но конечные результаты этого процесса, очевидно, будут использованы Китаем в свою пользу, а именно: 1) повысится уровень экономического развития приграничных районов КНР; 2) расширятся рынки сбыта китайской продукции; 3) увеличатся масштабы торговых связей со странами Европы; 4) появятся возможности установления контроля над региональными социально-политическими процессами путем осуществления инфраструктурных проектов, которые повлекут за собой китайское экономико-демографическоt присутствие в регионе 6.
В ноябре 2014 г. появились сообщения о том, что Правительство КНР намеревается соединить проект «Экономического пояса Шелкового пути» с более масштабным планом по созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ). К этому конгломерату предполагается добавить смежный проект «Морского Шелкового пути XXI века». По словам доцента Шанхайской АОН Ли Лифана, данные инициативы направлены на разрушение «всякого рода препятствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и смежных территориях, чтобы добиться кардинально большей открытости» и «поглотить возглавляемый Россией проект евразийской интеграции» 7.
А каковы выгоды для третьего актора в ЦА – США? Считается, что «усиление позиций Китая в Центральной Азии выгодно США, экспертное сообщество которых предлагает американскому руководству задействовать в своей внешней политике принцип “враг моего врага – мой друг” и отказаться от стратегии сдерживания России в Центральной Азии путем столкновения российско-китайских интересов в этом регионе» 8.
Важная роль энергетической составляющей прослеживается на примере внешней политики Туркменистана, который формально не входит ни в одно из крупных региональных объединений, но при этом активно сотрудничает с Китаем и, в меньшей степени, с Россией в области продажи углеводородов. Ожидается, что в 2016 г. КНР импортирует 40 млрд куб. м природного газа, а к 2016 г. этот показатель может достигнуть 65 млрд куб. м. Если потребность Китая в газе к 2020 г. достигнет 420 млрд куб. м в год, доля туркменского топлива составит 15 %, а российского – 9 %.
«Китайская национальная нефтегазовая корпорация» получила лицензию на разведку и добычу газа в 2007 г. на основе соглашения о разделе продукции и является единственной иностранной компанией, добывающей газ на суше Туркмении. Она построила там завод по подготовке товарного газа мощностью 9 млрд куб. м в год, углеводороды направляются в трансазиатский газопровод Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Китай 9.
В последнее время добыче и транспортировке газа из Туркменистана стали угрожать радикальные исламисты. Как (уже не впервые) сообщают СМИ со ссылкой на Радио «Азат-лык» – филиал Радио «Свобода», в афганских приграничных с Туркменистаном населенных пунктах пров. Фарьяб появляются боевики группировки «Исламское государство» (ИГ). В некоторых северо-западных районах Исламской Республики Афганистан (ИРА), заселенных в основном местными туркменами и давно переселенными с юга пуштунами, под видом «талибов» действуют радикальные туркменские этнические группировки. Около двух третей из них составляют афганские туркмены, а примерно треть – граждане Туркменистана. Обнаружились там и последователи Ф. Гюлена, распространяющие идеологию пантюркизма среди туркмен 10.
Афганские туркмены претендуют на две крупные газоносные площади – Серахский и Мервский (Марыйский) оазисы, а именно с этих месторождений осуществляется экспорт природного газа в Китай. Более того, «туркменские талибы» взяли под свой контроль почти все территории, по которым может пройти газопровод Туркменистан – Афганистан– Пакистан – Индия (ТАПИ). Это делает реальными попытки шантажа с угрозами срыва поставок. Силовые структуры Туркменистана, включая погранслужбу, связаны статусом нейтралитета и не смогут реально обеспечить защиту страны (и, следовательно, трубопроводов) от внешних противников.
Политологи считают, что ситуация в этих районах является опасной для всей ЦА и Прикаспийского региона. У Казахстана, России, Узбекистана, ОДКБ и ШОС отсутствуют какие-либо ощутимые связи с Ашхабадом в сфере коллективной безопасности.
Ситуацией на северо-западе ИРА могут воспользоваться конкуренты ТАПИ – Катар и Турция, выступающие против строительства газопроводов в направлении Пакистана, Индии и Китая. С учетом фактора экономического соперничества и надо рассматривать неподтвержденные пока сообщения о появлении группировок ИГ в Афганистане. Угрозы нападения (реальные или мнимые) со стороны радикалов заставили правительство Туркменистана договориться с Китаем о поставке зенитных ракетных комплексов HQ-9 11. Правда, непонятно, от налетов чьей авиации Ашхабад собирается защищать свое небо.
Формируя позитивный образ КНР за рубежом, китайское руководство активно использует различные методы применения «мягкой силы». К таким мерам во внешней политике можно отнести поддержку мирных деклараций, заявления о неприятии политики однополярного мира и об осуждении действий с позиции силы. Как пишет Р. Изимов, в документах 6-го пленума ЦК КПК 17-го созыва (октябрь 2011 г.) отмечалось, что «крупные государства целенаправленно наращивают “мягкую силу” ради повышения своей международной конкурентоспособности», и партии необходимо «осуществлять стратегию выхода культуры вовне, повышать международное влияние китайской культуры, демонстрировать миру новый образ реформ и открытости Китая» 12.
В рамках деловых связей и расширения сферы экономического влияния в странах ЦА ежегодно проводятся выставки EXPO «Китай – Евразия», которые оказывают китайским компаниям содействие в расширении торгово-экономических контактов, инвестировании и сотрудничестве с представителями бизнеса в регионе.
Причем китайские представители проявляют достаточно гибкий подход при реализации проектов со странами ЦА. Они не ставят жестких условий и демонстрируют большую выдержку и терпение. Их гибкость, отмечает Р. Изимов, «проявляется также в дистанцировании от участия в проектах, которые потенциально могут привести к конфликту между центральноазиатскими странами». В качестве примера он приводит ситуацию, когда первоначально руководство КНР дало согласие на участие в строительстве Заравшанской ГЭС в Таджикистане, однако затем приостановило работы, чтобы избежать ухудшения отношений между Душанбе и Ташкентом, резко возражавшим против возведения этой электростанции. В качестве компенсации Таджикистану китайцы предоставили кредит на сумму 1 млрд долл. для реконструкции автодороги с прокладкой двух тоннелей.
В процессе закрепления своего экономического влияния в регионе, Китаю предстоит преодолеть немало трудностей. В частности, осуществлению намеченных проектов мешает нестабильная обстановка как в самих странах ЦА, так и нерешенные проблемы двусторонних отношений между ними. Пограничные споры между Кыргызстаном и Узбекистаном, противостояние между Душанбе и Ташкентом (в том числе из-за уже упоминавшегося намерения Таджикистана возвести самую большую в мире ГЭС, что грозит уменьшением поступления пресной воды в Узбекистан на 30 %) уже приводили к перестрелкам на границе и прекращениям поставок газа из Узбекистана в обе страны.
Китай терпеливо выжидает стабилизации ситуации, но, тем не менее, нередко центральноазиатские СМИ публикуют материалы на тему «китайской угрозы». Правоохранительные органы не справляются с нелегальной китайской миграцией в страны ЦА и участившимися случаями стычек между мигрантами и местными жителями. По данным Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызстана, в 2013 г. иностранным гражданам было предоставлено 10 500 квот на работу. 70 % из них достались гражданам КНР. В 2014 г. квот стало 12 990, а процентное соотношение тех, кто их получил, практически не изменилось. Положение о порядке осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без граж- данства на практике не соблюдается. Как сообщают СМИ, «приезжие платят мизерные налоговые отчисления и взятки за продление разрешения на нахождение в стране, при этом истинная деятельность их остается покрытой мраком…» 13.
Такие примеры показывают, что создание положительного образа Китая отнюдь не простое дело. Поэтому одной из актуальных задач остается смягчение и предупреждение анти-китайских настроений. Так, усилия Китая в сфере образования направлены на неторопливые, но тщательно продуманные меры, необходимые для формирования имиджа «образцовой нации» и надежного партнера. Одним из путей поиска общего языка между народами региона китайцы справедливо считают предоставление молодежи стран ЦА возможностей для получения образования в КНР 14. В Синьцзянском педагогическом университете (Урумчи) учится много студентов из соседних стран, большинство бесплатно или даже получая стипендию. В 2014 г. там учились 724 иностранных студента, а всего в вузах Китая получают образование более 7,5 тыс. студентов только из одного Казахстана. Активно поддерживают программы по обмену студентов институты Конфуция, открытые при университетах центральноазиатских стран 15. По данным на начало 2014 г., только в Бишкекском гуманитарном университете китайский язык изучали около 2 тыс. студентов 16. Более 1,5 тыс. туркменских студентов обучаются в университетах КНР, и т. п.
После начала деятельности ШОС многие политологи возлагали надежды на создание прочного экономического и политического союза единомышленников. Однако высказывались и иные мнения (особенно западными экспертами). Так, О. А. Вестад писал [2014. С. 546], что «в ШОС нашла отражение центральная роль Китая в Средней Азии. Через сто лет в этом регионе Пекин снова оказался на коне» 17. Определяющую роль играет практический не сбавляющий темпы (несмотря на кризисы) экономический рост КНР. Директор Центра изучения ШОС Пань Гуан говорит откровенно: «Самым очевидным преимуществом Китая является его экономическая мощь. Многие страны – члены ШОС надеются, что Китай усилит инвестиции» 18.
Бывший мэр Москвы Ю. Лужков, оценивая геополитические риски стратегического альянса России и Китая, пишет: «Весь китайский мегапроект – не что иное, как складчина “ сырьевиков ”, которым позарез нужны емкие рынки… По мере того как Поднебесная устремлена, напрягая силы, в шестой технологический уклад 19, потоки стратегического сырья Сибири и Дальнего Востока будут исправно наполнять закрома Желтого Дракона… А Сибирь остается спокойным тылом Китая . Но это вовсе не значит, что на долгие времена» (выделено Ю. Лужковым. – В. П. ) [2015].
О том, что достигнутое равновесие носит относительный характер, свидетельствуют последние сообщения с фронтов «газовой войны». В конце января 2015 г. министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркмении договорились о расширении проекта Трансанатолийского газопровода. Они также поддержали создание транспортного коридора Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция. Создание этой линии в глобальном плане рассматривается как противовес активно развивающейся системе трубопроводов по маршруту Центральная Азия – Китай. Однако свою позицию по данному вопросу имеет Иран с его громадными нефтегазовыми ресурсами, предложивший транспортировать туркменский и азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу через свою территорию (что неприемлемо для США и Израиля) 20. Значительный интерес к восточному маршруту поставок проявляют Индия и Пакистан, которые не исключают возвращения к проекту ТАПИ. В данном вопросе, имеющем геополитическое значение, они могут кооперироваться с Китаем, у которого потребность в газе в 2015 г. составит 300–350 млрд куб. м в год. Именно Китай занимает наиболее выгодные позиции в нынешних газовых спорах, поскольку может опираться на ресурсы России, Центральной Азии и Ирана и даже в какой-то мере делиться с другими странами.
Поэтому глава МИД КНР Ван И имел полное право заявить: «Китай выступил с инициативой формирования “одного пояса – одного пути”. Мы хотим продолжить традицию Великого шелкового пути и наполнить его новым содержанием в новом веке» 21.
Список литературы Политика Китая в Центрально-Азиатском регионе
- Арифханов Ш. Центральная Азия: региональная интеграция и безопасность: [новый взгляд]: 2-е изд., перераб. и доп. Ташкент: Академ-хизмат, 2008. 202 с.
- Вестад О. А. Беспокойная империя: Китай и мир с 1750 года / Пер. с англ. С. А. Белоусова. М.: Центрполиграф, 2014. 639 с.
- Киссинджер Г. О Китае / Пер. с англ. В. Верченко. М.: Астрель, 2013. 635, [5] с.
- Лужков Ю. М. «Желтый дракон» загребает жар распри Европы и России, или геополитические риски стратегического альянса России и Китая // Аргументы недели. 2015. № 2 (22.01.2015). С. 24.
- Молодин В. И., Комиссаров С. А. История китайских границ // Новая и новейшая история. 2003. № 3. С. 152-156.