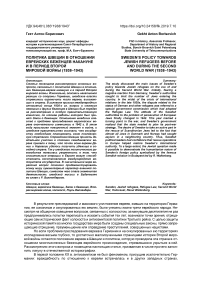Политика Швеции в отношении еврейских беженцев накануне и в период Второй мировой войны (1938-1943)
Автор: Гехт Антон Борисович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению основных вопросов, связанных с политикой Швеции в отношении беженцев-евреев накануне и в период Второй мировой войны. Изначально, опасаясь негативной реакции со стороны Германии, шведские власти стремились ограничить число евреев, въезжающих в страну. В условиях кризиса международных отношений конца 1930-х гг. вопрос о статусе немецких и других беженцев в Швеции был передан на рассмотрение в особую правительственную комиссию, по итогам работы которой был принят Закон о беженцах. Отношение шведских властей к проблеме преследования европейских евреев окончательно изменилось в 1942 г. В этом году произошел поворотный момент в войне, и шведское правительство осознало, что государству необходимо планировать свою послевоенную стратегию. Стремление Швеции принять деятельное участие в спасении скандинавских евреев привело к тому, что почти всем евреям Дании и Норвегии удалось получить убежище в соседней стране. Так у шведского политического руководства появилась уверенность в том, что спасательные операции в Европе могут способствовать восстановлению международного авторитета государства. В значительной мере еврейский вопрос позволил продемонстрировать всему миру гуманитарный характер внешней политики Швеции, символом чего стала знаменитая деятельность шведской миссии в Будапеште во главе с Р. Валленбергом.
Швеция, еврейские беженцы, закон о беженцах, вторая мировая война, холокост, рауль валленберг
Короткий адрес: https://sciup.org/149134008
IDR: 149134008 | УДК: 94(481).083“1938/1943” | DOI: 10.24158/fik.2019.7.10
Текст научной статьи Политика Швеции в отношении еврейских беженцев накануне и в период Второй мировой войны (1938-1943)
В результате преследований и массового уничтожения евреев, живших на территории Германии, ее союзников и оккупированных ею землях, были унесены жизни трети еврейского народа. Несмотря на обширное освещение вопросов, связанных с холокостом, за минувшие десятилетия не раз предпринимались попытки переписать и исказить события тех лет, возникали точки зрения, отрицающие сам исторический факт холокоста и антисемитской политики Третьего рейха. С целью защиты исторической памяти во многих государствах мира были созданы специальные законы, прямо запрещающие отрицание, преуменьшение или оправдание преступлений, совершенных нацистами.
Но если проблема преследования евреев в Германии и на оккупированных ею территориях исследована весьма глубоко, то достаточно малоизученными страницами истории Второй мировой войны остаются положение евреев в Швеции и политика, которую проводила эта страна в отношении многочисленных беженцев еврейского происхождения, стремившихся укрыться в ней. Рассмотрению этого вопроса и посвящена настоящая статья, призванная в числе прочего заполнить лакуну в отечественной историографии.
В первой половине XX в. антисемитизм не был феноменом, присущим исключительно Германии: враждебность по отношению к евреям встречалась и в других западных странах, в том числе и в Швеции. Во многих литературных произведениях конца XIX – начала XX в. еврейские персонажи описываются в традиционной антиеврейской манере – как зажиточные и жадные ростовщики, капиталисты и т. п. [1, p. 46]. Популярность широко распространившихся на рубеже XIX–XX вв. расовых теорий усиливали представления о том, что евреи действительно заметно отличались от основного европейского населения. Неудивительно, что наиболее радикальные проявления антисемитизма выразились в пропаганде шведской Национал-социалистической рабочей партии, созданной в подражание немецкой НСДАП.
Шведские нацисты никогда не были важным элементом в шведской политической жизни и в условиях преобладания в стране социал-демократических взглядов оставались политическими маргиналами. Они утверждали, что евреи поставили под угрозу существование шведского государства, взяв под контроль банки, промышленность и средства массовой информации [2]. Такие заявления резко выделяли это движение на фоне других политических партий конца 1930-х гг., порождая разногласия по вопросам и экономического развития королевства, и его отношений с Германией, и тем самым актуализировали еврейский вопрос в стране. Швеция, являясь важным экономическим партнером Германии и в то же время нейтральной страной, оказалась вовлечена в проблематику еврейского вопроса накануне и во время Второй мировой войны.
Рассуждая о еврейской общине Швеции, следует отметить, что вплоть до начала войны она не была однородной. К рассматриваемому периоду еврейское население Швеции составляло лишь около 6 500 человек [3]. В стране существовали три главные еврейские конгрегации: в Стокгольме, Гетеборге и Мальме [4, s. 19]. Стокгольмская конгрегация была наиболее крупной и влиятельной. В ней преобладали евреи, хорошо интегрированные в шведское общество. Каждый раз, когда шведскому правительству необходимо было узнать мнение по вопросам, касающимся еврейской общины, оно обращалось к руководителям стокгольмской конгрегации. Их позиция рассматривалась как «официальное еврейское мнение». В действительности же взгляды представителей еврейской конгрегации Стокгольма значительно расходились практически по каждому вопросу [5, p. 48]. Естественно, они не могли полноценно отражать позиции и интересы других еврейских конгрегаций Швеции.
После начала открытого преследования немецких евреев нацистами в Швеции была создана общественная организация, имевшая своей целью помощь еврейским беженцам, – Еврейский комитет. Его главой стал владелец одного из лучших книжных магазинов Стокгольма, шведский еврей Гуннар Йосефсон [6, s. 161]. Г. Йосефсон был женат на сестре Эрика Бухемана, государственного секретаря Министерства иностранных дел Швеции, во многом ответственного за определение и формирование внешнеполитического курса королевства. Таким образом, Г. Йосефсон мог в некоторой степени оказывать влияние на деятельность шведского правительства по вопросам, касающимся евреев.
Г. Йосефсон, как и многие другие евреи, был обеспокоен ростом проявлений антисемитизма в Швеции. Одной из причин тому было увеличение числа еврейских беженцев из Германии и оккупированных ею территорий, что воспринималось как возможная угроза безопасности страны в условиях агрессии Германии в Европе. Тем не менее комитету Г. Йосефсона было разрешено участвовать в рассмотрении заявлений еврейских беженцев на получение вида на жительство в Швеции. Чаще всего выбор делался в пользу образованных и хорошо интегрированных в европейское общество евреев. Комитет также брал на себя финансовые расходы, связанные с принятием этих новых мигрантов [7, s. 161–162].
Сам Г. Йосефсон достаточно скептически относился к способности Швеции стать лидером среди стран Европы по принятию еврейских беженцев, поэтому и не стремился как-либо заметно повлиять на политику правительства [8, p. 48]. За пределами Швеции такая позиция подвергалась резкой критике. Например, представитель Еврейского агентства Соломон Адлер-Радел и представитель американского Управления по делам военных беженцев в Швеции Айвер С. Олсен отмечали неспособность Еврейского комитета оказать помощь еврейским беженцам накануне и в первые годы Второй мировой войны, когда у евреев еще была возможность покинуть Германию [9]. Такая критика деятельности комитета привела к образованию новых общественных организаций, нацеленных на помощь евреям.
В условиях кризиса международных отношений конца 1930-х гг. вопрос о статусе немецких и других беженцев в Швеции был передан на рассмотрение в особую правительственную комиссию, по итогам работы которой был принят Закон о беженцах. Именно этот закон и стал основой шведской миграционной политики в первые годы войны. Изучив официальные государственные отчеты шведского правительства (Statens offentliga utredningar), содержащие информацию по миграционной политике Швеции в исследуемые годы, можно заметить, что к категории беженцев из Германии, которые могли получить защиту в соответствии с новым Законом о беженцах, относились лица, покинувшие страну по идеологическим или политическим причинам. Евреи же в качестве политических беженцев шведскими властями не рассматривались [10].
Более того, еще до начала войны заграничные паспорта евреев были объявлены недействительными. В дальнейшем при выдаче им паспортов в них проставлялся специальный знак в виде буквы J (по-немецки Jude – ‘еврей’) [11, s. 168]. Однако важно подчеркнуть, что нацисты в то время стремились скорее побудить евреев уехать из Германии. Таким образом, этот немецкий закон не ставил формальных препятствий для евреев, желавших покинуть страну: только в октябре 1941 г. в Германии были приняты законы, запрещающие им это делать [12, s. 45]. До этого времени проблема жертв преследований заключалась не в том, чтобы покинуть нацистскую Германию, а в том, как попасть в другую страну.
Однако, несмотря на ухудшавшееся положение европейских евреев, Швеция не была намерена принимать беженцев с такими паспортами. Таким образом, не может быть никаких сомнений в намерении шведского правительства с помощью этого средства предотвратить переселение еврейских беженцев в Швецию. Еще одной мерой, используемой шведскими властями для различения евреев и других беженцев, была регистрация вероисповедания и расы [13, p. 56]. При этом шведские власти поясняли, что эта информация необходима исключительно для сбора статистических данных [14].
Другим подтверждением того, что шведское политическое руководство продолжало ориентироваться на Германию, являлось составление списков еврейских беженцев шведской Службой государственной безопасности. С одной стороны, Швеция начала ограниченный прием еврейских беженцев, но с другой, она могла предъявить эти списки по требованию немецких властей.
Такие моменты негативно отражались на репутации Швеции в первые годы войны. Заметим, что под очевидным влиянием успехов СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции Швеция прекратила публикацию сведений о вероисповедании и расе беженцев только в августе 1943 г. [15, p. 49].
Говоря о миграционной политике Швеции в первые годы войны, необходимо рассмотреть деятельность шведской еврейской общины. Еврейской конгрегацией был создан специальный комитет в целях помощи еврейским беженцам, однако им не предпринималось никаких активных действий, которые могли повлиять на официальную позицию шведских властей в отношении еврейских беженцев. Ряд историков как раз в этом видят причину пассивности шведских властей в первые годы войны: вопреки действиям достаточно узкой группы активистов, в целом шведская еврейская община не была заинтересована в увеличении числа беженцев [16]. И основным мотивом был не страх роста антисемитизма, о котором заявлялось официально, но неготовность принимать малообразованных и небогатых беженцев из Восточной Европы, поскольку средства на содержание новых беженцев выделялись главным образом еврейскими конгрегациями Швеции. Поэтому, как уже упоминалось ранее, комитет делал выбор в основном в пользу материально обеспеченных евреев.
Однако отношение политического руководства Швеции к еврейским беженцам стало постепенно меняться после середины 1940 г. Это было вызвано оккупацией соседних Скандинавских стран, которая началась в апреле 1940 г., собственно сразу после чего шведское правительство было поставлено перед тяжелым выбором. С одной стороны, Швеция оказалась фактически полностью изолирована и столкнулась с перспективой быть оккупированной нацистами. Именно поэтому вся ее дальнейшая внешняя политика была направлена на то, чтобы всеми силами избежать конфликта с Германией [17, s. 87]. Но с другой стороны, проблема коснулась соседних, родственных Скандинавских стран, и Швеции необходимо было предпринять какие-то действия, не вызвав при этом недовольство немецких властей.
Вскоре были сделаны попытки предоставить больше возможностей именно для еврейских беженцев. В январе 1941 г. член норвежской дипломатической миссии в Стокгольме Йенс Булл в письме шведскому министру иностранных дел Кристиану Гюнтеру просил расширить шведское определение политического беженца до «любого, кто чувствует угрозу для своей жизни и свободы» [18, p. 186], независимо от того, совершил он политическое преступление или нет. Но на тот момент правительство Швеции еще не было готово к таким решительным шагам.
Последующие попытки изменения шведского законодательства в отношении еврейских беженцев были предприняты уже осенью 1941 г. [19]. К тому моменту резко возросло число заявлений евреев на получение разрешения на въезд в Швецию и шведского вида на жительство. Иногда Министерство иностранных дел Швеции получало от сорока до пятидесяти заявлений на получение визы в день, и по многим из них принималось положительное решение [20, s. 322]. Основанием этому послужило новое постановление шведского правительства, согласно которому еврейским беженцам, подвергшимся расовым преследованиям, может быть предоставлено разрешение на въезд, невзирая на более ранние положения, в которых важная роль отводилась политическим причинам [21].
Однако большинство разрешений на въезд, выданных евреям на территориях, контролируемых нацистами, использовать стало невозможно, поскольку, как уже упоминалось выше, с октября 1941 г. евреям было отказано в выдаче разрешений на выезд со стороны немецких властей. С этого момента проблема для евреев и других преследуемых лиц в странах, находившихся под контролем Германии, заключалась в том, чтобы покинуть свою страну. Таким образом, немногие беженцы могли воспользоваться изменениями в политике Швеции.
Отношение шведских властей к проблеме преследования европейских евреев окончательно изменилось в 1942 г. Именно в этом году произошел поворотный момент в войне, и шведское правительство осознало, что государству необходимо планировать свою послевоенную стратегию. Одной из основных тем стала роль Швеции в послевоенной реконструкции Европы. Многие шведы опасались, что политика Швеции, которая проводилась в первые годы войны, будет иметь серьезные негативные последствия для страны в послевоенное время. Очевидно, шведскому правительству необходимо было провести радикальные изменения в шведско-германских отношениях и перейти к более тесному сотрудничеству с союзными силами.
Основные перемены коснулись политики Швеции в отношении еврейских беженцев. Это произошло осенью 1942 г. [22, s. 286]. Если раньше Швеция придерживалась ограничительной политики, то в конце 1942 г. она перешла к крупномасштабному приему беженцев. Исследователи видят разные причины такого изменения. К примеру, шведский историк Поль Левин утверждает, что поводом могло послужить то, что «окончательное решение еврейского вопроса» коснулось соседней Норвегии: осенью 1942 г. начались депортации норвежских евреев в концентрационные лагеря [23, p. 154]. Другой шведский историк, Микаэль Бистрём, преобразовал это объяснение и показал, что такой поворот в политике можно объяснить при помощи идеи скандинавизма: он настаивает, что такая реакция была вызвана в первую очередь тем, что вопрос депортации касался не только евреев, но также и «этнических» скандинавов [24, s. 78]. Можно заключить, что обе упомянутые причины в конечном итоге побудили правительство Швеции прийти на помощь своим соседям и принять более решительные меры.
Новости о начале депортаций норвежских евреев в концентрационные лагеря в Норвегии быстро распространились в шведских средствах массовой информации и вызвали волну протестов в обществе, особенно в церковных кругах. Многие пасторы читали проповеди, осуждающие политику Германии в отношении евреев, а епископы Швеции выпустили совместную декларацию, в которой выражался протест расовым законам Германии [25, p. 60].
Давление со стороны частных лиц и организаций, особенно со стороны Шведской церкви, побудило правительство принять меры по спасению евреев. Министр иностранных дел К. Гюнтер использовал несколько методов. Он обратился к Арвиду Рикерту, шведскому послу в Берлине, с тем чтобы тот попросил разрешения у Министерства иностранных дел Германии наделить Швецию правом принять оставшихся норвежских евреев и предоставить им убежище в Швеции. В то же время правительство обратилось к принцу Карлу, главе Шведского отделения Красного Креста, чтобы тот попросил своего коллегу в Норвегии помочь переправить норвежских евреев в Швецию. Однако оба запроса получили отрицательные ответы [26, p. 67].
Несмотря на это, Швеция все равно была готова предоставить убежище всем норвежским евреям, которые пересекли шведскую границу. Норвежский историк Матс Тангестуэн в своих исследованиях отмечает, что во время оккупации Норвегии нацистами в апреле 1940 г. на ее территории проживало около 2 100 евреев, большинство из них были норвежскими гражданами, 290 – лицами без гражданства и 530 – евреями с другим гражданством [27, s. 41–42]. После этого часть евреев бежала в Швецию, однако основной поток еврейских беженцев из Норвегии в Швецию пришелся на период с октября 1942-го по январь 1943 г. [28, p. 139–140]. Это обусловлено тем, что с этого времени шведские власти не делали никакой разницы между «евреями, имеющими связи со Швецией, являющимися норвежскими гражданами или вообще не имеющими гражданства» [29, p. 140].
Таким образом, все евреи, подвергшиеся преследованиям в оккупированной Норвегии, могли получить убежище в соседней нейтральной Швеции. Однако тот факт, что Министерство иностранных дел Швеции работало над оказанием помощи норвежским евреям, в средствах массовой информации не обнародовался. Уместно предположить, что шведское правительство пыталось не провоцировать германские власти на принятие мер в отношении Швеции.
Вопрос о массовом принятии еврейских беженцев снова актуализировался в Швеции в августе 1943 г., когда в соседней Дании немецкими властями было объявлено военное положение, упразднявшее прежнее коллаборационистское правительство. Стало ясно, что исполнение «окончательного решения еврейского вопроса» в Дании было лишь вопросом времени. В таких условиях Швеция была готова принять датских евреев и официально объявила об этом 3 октября 1943 г. Около 7 500 из 8 000 датских евреев удалось бежать в Швецию. Таким образом, в ходе операции были спасены почти все евреи Дании. Шведское правительство, частные лица и организации обеспечивали беженцев продовольствием и жильем, помогали с трудоустройством [30, p. 65].
Таким образом, шведская сторона действительно сыграла важную роль в деле спасения немалого числа человеческих жизней, приняв на своей территории многочисленных беженцев из соседних стран. Более того, шведское правительство пришло к выводу, что действия, направленные на спасение европейских евреев, могут существенно поднять авторитет королевства в глазах международного сообщества, не раз сталкивавшегося с противоречивыми действиями шведской стороны по отношению к Германии. Именно в этом контексте представляется верным рассматривать некоторые мотивы знаменитой миссии по спасению венгерских евреев в Будапеште, связанной с именем Рауля Валленберга (ее подробное изучение выходит за рамки настоящей работы).
Подводя итоги исследования, сформулируем следующие выводы.
Накануне и в первые годы Второй мировой войны Швеция шла на большие уступки Германии (поставляла железную руду, сталь, предоставляла свою территорию для транзита германских войск, избегала появления в СМИ критики действий нацистов), стремясь сохранить свой нейтралитет. Шведские власти называли все эти меры вынужденными, направленными на сохранение нейтралитета страны, и в связи с этим стремились максимально сократить количество евреев, въезжавших в королевство.
В то же время в стране действовали общественные еврейские организации, которые разрабатывали методы помощи преследуемым евреям Европы, пытались повлиять на шведское правительство и призвать его к более активным действиям. В 1940 г., в связи с оккупацией нацистами соседних Скандинавских стран, шведскими властями действительно были предприняты первые попытки изменения законодательства, которые помогли многим (преимущественно материально обеспеченным) евреям из соседних стран получить убежище в Швеции. Однако это были незначительные меры, учитывая ухудшающееся положение евреев на континенте. На тот момент шведское правительство еще не было готово к решительным действиям, опасаясь негативной реакции Германии.
Отношение шведских властей к еврейскому вопросу окончательно изменилось в 1942 г., после начала коренного перелома во Второй мировой войне. В условиях грядущего поражения Германии шведское правительство произвело радикальные изменения в своей политике и перешло к более тесному сотрудничеству с союзными силами. Если в первые годы войны Швеция делала все, чтобы не вызвать недовольство Германии, то в последние годы войны все усилия страны были направлены на восстановление своего международного авторитета.
Стремление Швеции принять деятельное участие в спасении скандинавских евреев привело к тому, что почти всем евреям Дании и Норвегии удалось получить убежище в соседней стране. Решительные действия шведского правительства были одобрены США, а международные еврейские организации выразили шведской стороне признательность и в дальнейшем обращались к ней за помощью. Так у шведского политического руководства появилась уверенность в том, что спасательные операции в Европе помогут восстановить международный авторитет страны. В значительной мере еврейский вопрос позволил продемонстрировать всему миру гуманитарный характер внешней политики государства, символом чего стала знаменитая деятельность шведской миссии в Будапеште во главе с Р. Валленбергом.
Ссылки:
-
1. Koblik S. The Stones Cry Out: Sweden’s Response to the Persecution of the Jews. 1933–1945. N. Y., 1988. 305 p.
-
2. Lindholm S.O. Svensk frihetskamp. Göteborg, 1943. 135 s.
-
3. Second Conference Document No. 24 [Электронный ресурс] // The JDC Archives. URL: https://archives.jdc.org/our-collec- tions/finding-aids/new-york-office/1933-1944/subject-matter/#Refugees (дата обращения: 06.03.2019).
-
4. Valentin H. Judarna i Sverige. Stockholm, 1964. 241 s.
-
5. Koblik S. Op. cit. P. 48.
-
6. Geverts K.K. Ett främmande element i nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938–1944. Uppsala, 2008. 324 s.
-
7. Ibid. S. 161–162.
-
8. Koblik S. Op. cit. P. 48.
-
9. Raoul Wallenberg Material Copied from the Records of the War Refugee Board and the Morgenthau Diaries [Электронный ресурс] // Telegrams and Correspondence of the War Refugee Board (WRB) in Washington and Various US Embassies Regarding Matters Related to Sweden, 1944. URL: http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/wrb/wrb1508.pdf (дата обращения: 02.03.2019).
-
10. Statens offentliga utredningar 1946:36 [Электронный ресурс] // Digitaliserade verk. URL:
-
11. Geverts K.K. Op. cit. S. 168.
-
12. Bruchfeld S., Levine P.A. …Om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. Stockholm, 1997. 84 s.
-
13. Hedman R., Wibling J. De s.k. arierbevisen: löpande ärenden vid ett landsarkiv åren 1933–1944. Lund, 1968.
-
14. Sociala Meddelanden, 1938 [Электронный ресурс]. URL: http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Doku-
ment/BISOS/Sociala%20meddelanden%201938%207-12.pdf (дата обращения: 21.02.2019).
-
15. Koblik S. Op. cit. P. 49.
-
16. Ibid.
-
17. Svanberg I., Tydén M. Sverige och förintelsen: debatt och dokument om Europas judar 1933–1945. Stockholm, 2005. 451 s.
-
18. Geverts K.K. Op. cit. P. 186.
-
19. Statens offentliga utredningar 1946:36.
-
20. Lindberg H. Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936–1941. Stockholm, 1973. 349 s.
-
21. Ibid. S. 322.
-
22. Nybom T. Motstånd, anpassning, uppslutning: linjer i svensk debatt om utrikespolitik och internationell politik 1940–1943. Stockholm, 1978. 402 s.
-
23. Levine P.A. From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust, 1938–1944. Uppsala, 1996. 293 p.
-
24. Byström M. En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947. Stockholm, 2006. 286 s.
-
25. Koblik S. Op. cit. P. 60.
-
26. Ibid. P. 67.
-
27. Tangestuen M. Også jødene kom for øvrig over grensen høsten 1942: jødiske flyktninger fra Norge i Sverige 1940–1945. Bergen, 2004.
-
28. Levine P.A. Op. cit. P. 139–140.
-
29. Ibid. P. 140.
-
30. Koblik S. Op. cit. P. 65.
(дата обращения: 21.02.2019).
Список литературы Политика Швеции в отношении еврейских беженцев накануне и в период Второй мировой войны (1938-1943)
- Koblik S. The Stones Cry Out: Sweden’s Response to the Persecution of the Jews. 1933-1945. N. Y., 1988. 305 p
- Lindholm S.O. Svensk frihetskamp. Göteborg, 1943. 135 s
- Second Conference Document No. 24 [Электронный ресурс] // The JDC Archives. URL: https://archives.jdc.org/our-collections/finding-aids/new-york-office/1933-1944/subject-matter/#Refugees (дата обращения: 06.03.2019)
- Valentin H. Judarna i Sverige. Stockholm, 1964. 241 s
- Koblik S. The Stones Cry Out: Sweden’s Response to the Persecution of the Jews. 1933-1945. N. Y., 1988. P. 48.
- Raoul Wallenberg Material Copied from the Records of the War Refugee Board and the Morgenthau Diaries [Электронный ресурс] // Telegrams and Correspondence of the War Refugee Board (WRB) in Washington and Various US Embassies Regarding Matters Related to Sweden, 1944. URL: http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/wrb/wrb1508.pdf (дата обращения: 02.03.2019)
- Statens offentliga utredningar 1946:36 [Электронный ресурс] // Digitaliserade verk. URL: http://weburn.kb.se/metadata/445/SOU_8216445.htm (дата обращения: 21.02.2019)
- Geverts K.K. Ett främmande element i nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944. Uppsala, 2008. S. 168.
- Bruchfeld S., Levine P.A. …Om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945. Stockholm, 1997. 84 s
- Hedman R., Wibling J. De s.k. arierbevisen: löpande ärenden vid ett landsarkiv åren 1933-1944. Lund, 1968
- Sociala Meddelanden, 1938 [Электронный ресурс]. URL: http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS/Sociala meddelanden 1938 7-12.pdf (дата обращения: 21.02.2019)
- Koblik S. The Stones Cry Out: Sweden’s Response to the Persecution of the Jews. 1933-1945. N. Y., 1988. P. 49.
- Svanberg I., Tydén M. Sverige och förintelsen: debatt och dokument om Europas judar 1933-1945. Stockholm, 2005. 451 s
- Geverts K.K. Ett främmande element i nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944. Uppsala, 2008. P. 186.
- Lindberg H. Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941. Stockholm, 1973. 349 s
- Lindberg H. Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941. Stockholm, 1973. S. 322.
- Nybom T. Motstånd, anpassning, uppslutning: linjer i svensk debatt om utrikespolitik och internationell politik 1940-1943. Stockholm, 1978. 402 s
- Levine P.A. From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust, 1938-1944. Uppsala, 1996. 293 p
- Byström M. En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-1947. Stockholm, 2006. 286 s
- Koblik S. The Stones Cry Out: Sweden’s Response to the Persecution of the Jews. 1933-1945. N. Y., 1988. P. 60.
- Koblik S. The Stones Cry Out: Sweden’s Response to the Persecution of the Jews. 1933-1945. N. Y., 1988. P. 67.
- Tangestuen M. Også jødene kom for øvrig over grensen høsten 1942: jødiske flyktninger fra Norge i Sverige 1940-1945. Bergen, 2004
- Levine P.A. From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust, 1938-1944. Uppsala, 1996. P. 139-140.
- Levine P.A. From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust, 1938-1944. Uppsala, 1996. P. 140.
- Koblik S. The Stones Cry Out: Sweden’s Response to the Persecution of the Jews. 1933-1945. N. Y., 1988. P. 65.