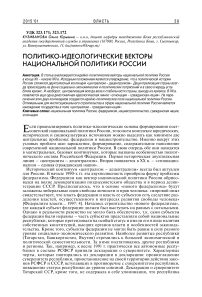Политико-идеологические векторы национальной политики России
Автор: Кузиванова Ольга Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются идейно-политические векторы национальной политики России в конце XX - начале XXI в. Исходным положением является утверждение, что в политической истории России сложился двухполюсный континуум «централизм - децентрализм». Децентрализация страны всегда происходила на фоне социально-экономических и политических потрясений и в свою очередь углубляла кризис. И наоборот, централизация всегда вела к стабильности страны, выходу из кризиса. В XX в. появляется еще одна дихотомичная идеологическая линия: «этнонация - гражданская нация». На пересечении этих двух континуумов создается идейно-политическое поле национальной политики России. Оптимальным для институционального строительства в сфере национальной политики России является нахождение государства в поле «централизм - гражданская нация».
Национальная политика России, федерализм, нациестроительство, гражданская нация, этнонация
Короткий адрес: https://sciup.org/170167661
IDR: 170167661
Текст научной статьи Политико-идеологические векторы национальной политики России
Е сли проанализировать политико-идеологические основы формирования постсоветской национальной политики России, то во всем комплексе юридических, исторических и социокультурных источников можно выделить как минимум две центральные проблемы: федерализм и нациестроительство. Именно вокруг этих узловых проблем шло зарождение, формирование, содержательное наполнение современной национальной политики России. В свою очередь обе они находятся в магистральных, базовых континуумах, которые вызваны особенностью полиэтнического состава Российской Федерации. Первая историческая двухполюсная линия – «централизм – децентрализм». Вторая появляется в XX в. – «этнонационализм – единая (гражданская) нация».
Исторический континуум «централизм – децентрализм» всегда был актуален для России. В начале 1990-х гг. эта двухполюсность приобрела форму проблемы федерализма. Федерализм как вектор национальной политики России обрисовался на волне демократизации позднесоветского общества и в период дезинтеграции СССР. Предполагалось, что в основе «нового федерализма» будут заложены либеральные идеи свободы личности и прав человека: «мировой опыт свидетельствует, что власть федерации и власть ее субъектов есть следствие разделения властей, осуществленного в интересах развития свободы человека» [Федерализм власти… 1997: 4]. Началось строительство «нового федерализма», где каждый субъект федерации должен был выступать на равных с остальными. Однако в реальности равенство не могло быть обеспечено, т.к. сами субъекты федерации были неравны – часть субъектов представляли собой национальные республики, которые претендовали на особый статус и имели его в виде наличия собственных конституций, высших органов власти и особенностей законодательства. Кроме того, субъекты федерации не могли быть равны в силу разного уровня социально-экономического развития. Наиболее развитые республики (Татарстан, Башкортостан, Якутия) стремились к большей экономической и политической самостоятельности. За ними подтягивались другие республики и регионы. Так, например, к весне 1991 г. практически все автономные республики в составе РСФСР приняли декларации о суверенитете. Характерные черты, которые повторялись из декларации в декларацию: провозглашение суверенитета республики, приостановление на своей территории действия законов РСФСР и СССР, вступающих в противоречие с суверенитетом республики, повышение статуса республики до уровня союзной. Декларация о суверенитете Татарской ССР, кроме того, не содержала в себе упоминания, что республика входит в состав РСФСР1. Чеченская республика в 1991 г. провозгласила независимость. Таким образом, процесс суверенизации республик привел к усилению тенденции децентрализации всей страны.
Между тем, если следовать логике теории институциональных матриц (С. Кирдина), базовым политическим институтом России является унитаризм. Многовековая история России свидетельствует, что в периоды ослабления центральной власти государство всегда испытывало социально-политические потрясения, находилось в смуте, в политическом хаосе. Излишняя децентрализация политико-административного управления опасна для России, поскольку она «по своему институциональному базовому ядру является унитарным государством», в силу чего в ней «действуют общие принципы и единая система организации власти во всех территориальных частях страны» [Кирдина 2001: 139]. Принцип унитаризма в начале 1990-х гг. подвергся серьезной политико-идеологической ревизии, что привело Россию к опасной черте государственной нестабильности, за которой возможна потеря суверенитета.
Актуализацию полярности «централизм – децентрализм» можно обнаружить и в тексте Концепции государственной национальной политики 1996 г.2 В первом абзаце Концепции проявляется озабоченность сохранением единства страны: «Концепция учитывает необходимость обеспечения единства и целостности России в новых исторических условиях развития российской государственности…». В разделе I, характеризующем современную ситуацию в области национальных отношений в Российской Федерации, обозначены «взаимосвязанные тенденции», которые с очевидностью носят полярный характер: с одной стороны, обозначаются такие явления, как «стремление народов к самоопределению», «возрастающая самостоятельность субъектов Российской Федерации», «разные социальноэкономические возможности регионов», «стремление сохранить и развивать национально-культурную самобытность», с другой – декларируется «объективный процесс интеграции российского общества», «воля граждан к упрочению общероссийской государственности», «потребность в проведении общего курса экономических и политических реформ», «приверженность духовной общности народов России». Все тенденции определены в дихотомии, которая находится в русле пары полярностей «централизация – децентрализация», «интеграция – дезинтеграция». Поэтому в перечислении «узловых проблем, требующих решения», в первую очередь Концепция ГНП отмечала «развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное сочетание самостоятельности субъектов Российской Федерации и целостности Российского государства». Проблеме совершенствования федеративных отношений был посвящен весь IV раздел.
Одновременно с проблемой федерализма в идейно-политическом поле проявился вектор нациестроительства – формирования единой российской нации. Поскольку «нация составляет неотъемлемый фон новейшей европейской истории» [Хрох 2002: 121], то и Российская империя, и Советский Союз, и постсоветская Россия не могли избежать этой всеобщей закономерности. В Советском Союзе создание единой нации шло как стимулирование единой советской общности со всеми объединяющими атрибутами: русским языком в качестве языка межнационального общения, единой социалистической культурой, единым хозяйством, советским искусством и т.п. Однако «сколоченная из разных цивилизационных блоков» и функционирующая в конце своего существования «в разных экономических, политических и социальных режимах» [Национальная политика… 1997: 353] советская держава не смогла дожить до своего семидесятилетия: объединяющая роль идеологии оказалась недостаточной.
В постсоветской России задача создания современной российской нации и возникновения новой национальной субъектности вышла на 1-е место, потеснив даже процессы политической модернизации [Бызов 2012: 41]. Идея российской гражданской нации с самого начала обретения Россией правовой субъектности возникла как научная и политическая проблема. Объективно оппозиционными оказались идеи этнонации и гражданской нации. В политической сфере идеи этнонации прежде всего поддерживали этнонациональные течения. Одним из главных идеологов формирования российской гражданской нации стал В.А. Тишков, директор Института этнологии и антропологии РАН, в 1992 г. – председатель Государственного комитета РФ по национальной политике. Однако в Конституции 1993 г. вместо «полиэтнической нации», как предлагали сторонники гражданской нации, было включено понятие «многонациональный народ Российской Федерации» [Национальная политика…1997: 415].
В Концепции государственной национальной политики 1996 г. понятия «российская нация» не было. Тем не менее вопрос о нации не был снят с повестки дня, и первый президент России Б.Н. Ельцин уже часто использовал в своих речах слова «российский», «россияне» [Ратленд 2011: 177]. Логика политического развития России в конце 1990-х гг. и в нулевых годах приводила к пониманию необходимости большего единства не только на всех уровнях управления государством, но и на уровне духовного сплочения гражданского общества. После 2010 г., когда произошли некоторые сдвиги в идеологическом обосновании национальной политики (по мнению многих авторов, это случилось после известных событий на Манежной площади в Москве), российская власть стала больше внимания уделять идеологическому обоснованию национальной политики. В предвыборной статье В.В. Путина «Россия: национальный вопрос» уже использовалось понятие «гражданская нация» применительно к России, хотя чаще употреблялись определения «многонациональное государство», «уникальная цивилизация», «полиэтническая цивилизация», «многонациональное общество», «единый народ»1. В своем выступлении на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 г. президент также обратился к этой проблеме: «…формирование именно гражданской идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины без потери связи со своими этническими, религиозными корнями – необходимое условие сохранения единства страны»2.
В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года единая российская нация присутствует уже как неоспоримый факт, понятие «многонациональный народ Российской Федерации» используется наряду с понятием «российская нация». В Стратегии во всей очевидностью проявилось смещение акцентов: тенденция дезинтеграции к этому времени преодолена и поэтому неактуальна, усиление интеграции идет по пути укрепления духовного единства и формирования единой российской нации. «Единение» и «общность» проходят рефреном по всему тексту Стратегии: «единение народов», «объединяющая роль русского народа», «духовная общность различных народов», «единый культурный (цивилизационный) код», «единая российская культура» и т.д. В Стратегии констатируется, что «в результате мер по укреплению российской государственности, принятых в 2000-е годы, удалось преодолеть дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для формирования общероссийского гражданского самосознания на основе общей судьбы народов России…»3.
Таким образом, две магистральные линии, каждая из которых имеет дихотомич-ный характер, формировали политико-идеологическое поле национальной политики, по крайней мере в XX в. Исходя из доминирования того или иного полюса континуума, можно выделить четыре разнонаправленных вектора этнонациональ-ного развития России с конца 1980-х гг. (см. рис.1).
-
А. Вектор определяется ситуацией в конце существования СССР. С одной стороны, существует единое плановое хозяйство, экономическая интеграция, память об общем подвиге страны в годы Великой Отечественной войны и общих достижениях в освоении космоса, сложились общие духовные ценности, единая нормативная культура. То есть, существует основа советской надэтнической гражданской нации. С другой стороны, все это носит формальный характер. Реально набирают силу дезинтеграционные процессы, вызванные неэффективной плановой экономикой, низким уровнем жизни населения, ошибками в проведении национальной политики, неспособностью политической элиты СССР предложить новые интеграционные проекты. С усилением вектора этнонационализма страна переходит в новую реальность.
Б. Исторический этап с 1991 г., когда был запущен механизм распада Советского Союза. Началась децентрализация Российской Федерации, «парад суверенитетов». Децентрализация страны стимулировалась этнонациональными идеологиями и идеологией регионализма. В 1991 г. была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия, с распадом СССР заявившая о своей независимости. К марту 1992 г. резко обострились отношения между федеральной властью РФ и Республикой Татарстан, взявшей курс на последовательную реализацию суверенитета. Это был самый критический момент в тенденции децентрализации.
гражданская нация
А Г децентрализм
централизм
«новый федерализм»
Б------------------------->в этнонационализм
Рисунок 1 . Политико-идеологическое поле национальной политики
-
В. Тенденция децентрализации частично была преодолена подписанием 31 марта 1992 г. Федеративного договора. Федеративный договор подписали 18 республик, 57 краев, областей, города федерального подчинения Москва и Санкт-Петербург, 11 автономных округов и 4 автономные области. Практически все исследователи склоняются к мнению, что подписание Федеративного договора было необходимо, чтобы предотвратить нарастание открытого конфликта и раскол общества. Несмотря на то что договор не подписали Татарстан и Чечено-Ингушетия, остальные регионы фактом подписания подтвердили общую заинтересованность в сохранении территориальной целостности страны.
Принятие Конституции РФ 1993 г. стало еще одним шагом на пути укрепления федерации. Если представить развитие российского федерализма с 12 июня 1990 г. как борьбу центробежных и центростремительных сил, то можно говорить, что к концу 1993 г. преобладать стала центростремительная тенденция.
Г. Тенденция централизации еще более закрепилась в начале нулевых годов. По словам президента В. Путина, «одной из главнейших задач начала 2000-х годов было преодоление как открытого, так и латентного, “ползучего” сепаратизма, сра щивания ре гиональной власти с криминалом, националистическими группами»1.
Эта задача была решена через укрепление вертикали власти и практику приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Таким образом, новый федерализм приобрел черты старой российской политической традиции – политико-административного унитаризма. Базовый политический институт встроил в себя все возможные изменения и еще раз продемонстрировал устойчивость в рамках российской институциональной матрицы. В то же время с усилением централизации появилась основа для укрепления национального единства в рамках общегражданской нации.
Несмотря на то что новый федерализм оказался разновидностью традиционного российского унитаризма, именно данный вектор стал основой политикоадминистративной стабильности и базой для инноваций в национальной политике. Начиная с принятия Конституции РФ 1993 г. последовательно создается институциональное наполнение национальной политики: принята Концепция государственной национальной политики Российской Федерации (1996 г.), законы РФ «О национально-культурной автономии» (1996 г.), «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (1999 г.) и другие законодательные акты. В 2012 г. создается Совет при Президенте РФ по национальным вопросам, утверждается Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Возможен ли переход страны вновь в состояние А ? Возможен при условии формального насаждения идеи единой гражданской российской нации в совокупности с низкой эффективностью управления государством, недостаточным развитием экономики, с ослаблением власти федерального центра, падением ее авторитета. Как следствие, может усилиться вектор децентрализации (суверенизации, сепаратизма), а страна – вновь перейти к точке А .
Список литературы Политико-идеологические векторы национальной политики России
- Бызов Л.Г. 2012. Социокультурные и социально-политические аспекты формирования современной российской нации.//Полис (Политические исследования). № 4. С. 41-45.
- Кирдина С.Г. 2001. Институциональные матрицы и развитие России. 2-е изд., пер. и доп. Новосибирск: СО РАН. 278 с.
- Национальная политика России: история и современность. 1997. М.: Русский мир. 678 с.
- Ратленд П. 2011. Присутствие отсутствия: об этнической политике в России.//Полис (Политические исследования). № 2. С. 172-189.
- Федерализм власти и власть федерализма. 1997. М.: ТОО «Интел Тех». 875 с
- Хрох М. 2002. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в Европе. -Нации и национализм (пер. с англ. и нем). М.: Праксис. С.121-145
- Путин В. 2012. Россия: национальный вопрос. «Самоопределение русского народа -это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром». -Независимая газета. 23.01. Доступ: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (проверено 11.07.2014)
- Демократия и качество государства. В. Путин о развитии демократических институтов в России. -Коммерсантъ. № 20/П(4805), 06.02.2012. Доступ: http://www.kommersant.ru/doc/1866753 (проверено 11.07.2014)