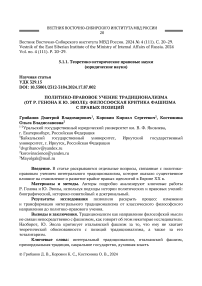Политико-правовое учение традиционализма (от Р. Генона к Ю. Эволе): философская критика фашизма справа
Автор: Грибанов Д.В., Коровин К.С., Костюнина О.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье раскрываются отдельные вопросы, связанные с политико-правовым учением интегрального традиционализма, которое оказало существенное влияние на становление и развитие крайне правых идеологий в Европе XX в. Материалы и методы. Авторы подробно анализируют ключевые работы Р. Генона и Ю. Эволы, используя подходы истории политических и правовых учений: биографический, историко-понятийный и доктринальный. Результаты исследования позволили раскрыть процесс изменения и трансформации интегрального традиционализма от классического философского направления до политико-правового учения. Выводы и заключения. Традиционализм как направление философской мысли не связан непосредственно с фашизмом, как говорят об этом некоторые исследователи. Наоборот, Ю. Эвола критикует итальянский фашизм за то, что ему не хватает теоретической обоснованности с позиций традиционализма, а также за его тоталитаризм.
Интегральный традиционализм, итальянский фашизм, примордиальная традиция, сакральное государство, духовная власть
Короткий адрес: https://sciup.org/143184023
IDR: 143184023 | УДК: 329.15 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.17.87.002
Текст научной статьи Политико-правовое учение традиционализма (от Р. Генона к Ю. Эволе): философская критика фашизма справа
Введение. В статье раскрываются отдельные вопросы, связанные с политикоправовым учением интегрального традиционализма, которое оказало существенное влияние на становление и развитие крайне правых идеологий в Европе XX в.
Материалы и методы. Авторы подробно анализируют ключевые работы Р. Генона и Ю. Эволы, используя подходы истории политических и правовых учений: биографический, историко-понятийный и доктринальный.
Результаты исследования позволили раскрыть процесс изменения и трансформации интегрального традиционализма от классического философского направления до политико-правового учения.
Выводы и заключения. Традиционализм как направление философской мысли не связан непосредственно с фашизмом, как говорят об этом некоторые исследователи. Наоборот, Ю. Эвола критикует итальянский фашизм за то, что ему не хватает теоретической обоснованности с позиций традиционализма, а также за его тоталитаризм.
-
5.1.1. Theoretical and historical legal sciences (legal sciences)
Original article
THE POLITICAL AND LEGAL DOCTRINE OF TRADITIONALISM (FROM R. GUENON TO Y. EVOLA):
PHILOSOPHICAL CRITICISM OF FASCISM FROM THE RIGHT
Dmitry V. Gribanov1, Korovin S. Kirill2, Olga V. Kostyunina3
-
1-2V.F. Yakovlev Ural State Law University, Yekaterinburg, Russian Federation 3Baikal State University, Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 1dvgribanov@yandex.ru
-
2korovinscience@yandex.ru
-
3Mayolgak@mail.ru
Introduction. The article reveals some issues related to the political and legal doctrine of integral traditionalism, which had a significant impact on the formation and development of extreme right-wing ideologies in Europe in the 20th century.
Materials and Methods. The authors analyze in detail the key works of R. Guenon and Yu. The evolutions using the approaches of the history of political and legal doctrines: biographical, historical-conceptual and doctrinal.
The Results of the Study allowed us to reveal the process of change and transformation of integral traditionalism – from the classical philosophical trend to the political and legal doctrine.
Findings and Conclusions. Traditionalism as a branch of philosophical thought is not directly related to fascism, as some researchers say. On the contrary, Yu. Evola criticizes Italian fascism for the fact that it lacks theoretical validity from the standpoint of traditionalism, as well as for its totalitarianism.
Традиционализмом принято называть ориентацию индивидуального, группового или общественного сознания на ценности прошлого, которое противопоставляется настоящему. Другими словами, традиционализм – это определенное умонастроение, проявляющее себя в идеологической, политической и бытовых сферах и более всего свойственное обществам с низкой социальной динамикой. В такой форме традиционализм присущ едва ли не каждому обществу и присутствует в различные исторические эпохи в виде консервативных настроений, не имеющих четкой доктринальной оформленности.
Однако уже в начале ХIХ в., как писал А. Дугин, традиционализм заявил о себе в несколько ином качестве – своеобразной систематизированной философской рефлексии, представленной именами Ж. де Местра, Э. Берка, Ф. Р. де Шатобриана, Л. Г. А. Бональда. Такой тип философской теории зародился в полемике с либерализмом на рубеже XVIII–XIX вв. после потрясений Великой французской революции и последовавшей за ней промышленной революции [1, с. 352–594] и представлял собой социально-политическое течение философской мысли консервативного толка, однако его все же нельзя свести к консерватизму как политической доктрине.
Всплеск традиционалистских настроений в интеллектуальной среде Европы был связан с неприятием частью ее представителей новых реалий социальной жизни: высвобождения индивидуальных интересов, стремления к автономии личности, морали, основанной на извлечении прибыли, веры в технический прогресс, феномена урбанизации и т. п. Такой поворот не ограничивался одной только критикой и попытками реанимации предшествующего социально-политического устройства общества. «Помимо экономических и политических интересов, – пишет М. М. Федорова, -– традиционализм … выражал надежды значительных общественных слоев на выявление универсального смысла мирового целого, который бы связал индивида с идеальным порядком, подобным существовавшему во времена «золотого века» человечества или конкретного государства» [2, с. 147–150].
Традиционалисты были заняты поисками средств гармонизации между такими сферами, как политика, экономика, мораль, и выдвигали в качестве альтернативной модели современного им общества свою, опирающуюся на принцип органицизма. С точки зрения мыслителей традиционалистской ориентации, общество следует рассматривать как сложный организм, развивающийся и организующийся в соответствии с единым принципом или законом, трансцендентным и примордиальным по отношению к самому обществу. Отсюда и критика просвещенческого разума, и уверенность в неспособности отдельного человека к созданию справедливого общественного устройства [3, с. 48–49]. По-видимому, традиционалисты уловили опасность, которую несет тотальная рационализация всех сфер человеческой жизнедеятельности (действительно, это станет одной из наиболее жгучих и обсуждаемых проблем в ХХ столетии), в силу чего старались ограничить абсолютистские притязания в вопросах познания и преобразования общества.
По мнению традиционалистов XIX века, индивидуальный разум должен апеллировать к некоему коллективному разуму, опыту, накопленному прошлыми поколениями, что способно уберечь его от ошибок. Характерным для традиционализма первого периода является еще и то, что в своих попытках отыскать некий скрытый общечеловеческий смысл исторического процесса в опыте прошлых поколений сторонники данного социально-философского направления обосновывали такое видение истории, в котором она предстает как плавное, линейное течение времени. По словам М. М Федоровой, традиционализм «оказался … развернутым во всех временных отношениях: будущее для него обретается только через связь с прошлым» [4, с. 123].
Трагический опыт ХХ столетия, со всей наглядностью выявивший несостоятельность новоевропейского проекта культуры, стал для мыслителей, принадлежащих к неклассической философской традиции, поводом к критическому переосмыслению основных теоретических установок философии культуры Нового времени, что означало для традиционализма вступление в новую фазу. Причем традиционалистская мысль, по сравнению с теоретизированием философов-традиционалистов XIX века, отличалась куда более радикальным характером. Можно сказать, что в целом ее развитие протекает примерно в том же русле, что и рассуждения сторонников «философии жизни», видевших, по словам И. Н. Колядко, истоки кризиса западноевропейской культуры в иудео-христианской традиции [5, с. 44].
Так, в первой половине ХХ века французский философ Р. Генон формулирует основные положения философского традиционализма нового поколения. При этом он опирается на ряд восточных и западных учений и синтезирует выработанные в их рамках идеи таким образом, чтобы они составили комплекс мировоззренческих установок, контрарных по своему значению тем посылкам, что образовали основу философии культуры Нового времени. Здесь речь идет прежде всего, как утверждает Е. А. Куликов, о просвещенческом типе гуманизма, унаследованном эпохой Нового времени от Ренессанса и постулирующем самоценность личности, а также о рационализме с его претензией на всезнание, глобальном историзме с присущими ему субстанциальными схемами социального развития и утопическими идеалами будущего [6, с. 10–16].
В соответствии с общей установкой европейской философии начала ХХ века на «онтологизацию» метода Р. Генон включает свою философию культуры в обязательный для системы контекст онтологии. Для построения своей онтологии он обращается к манифестационистским концепциям, в которых, в отличие от теистических (с их пониманием тварного сущего как свободного), постулируется жесткая зависимость сущего от первоначала. Р. Генон полагает в качестве основы сущего некий порождающий примордиальный Принцип. Помимо этого, в отличие от прогрессистских схем культурно-исторического процесса, французский философ принимает концепцию циклического времени, а рациональным способам познания предпочитает особый способ постижения трансцендентного смысла бытия посредством мистического созерцания или интеллектуальной интуиции [7, с. 220– 221].
Высший принцип – это ключевая категория генонизма, которая получает апофатическое определение. В соответствии с традицией индийской мысли Р. Генон интерпретирует Высший принцип как метафизическое единство полярных аспектов: активного и пассивного или Пракрити и Пуруши. Эти категории и есть первая ступень манифестации Высшего Принципа, которые, находясь за пределами сущего, т. е. всего того, что так или иначе существует, определенным образом обуславливают это существование. Знание категорий Пракрити и Пуруши составляет некую Примордиальную Традицию, известную человечеству в начале истории и непроницаемую для него в ее конце [8, с. 243–246].
Если задаться вопросом о содержании категории «Примордиальная Традиция», то она может быть понята как своего рода архетип культуры или совокупность неких внеисторических и общезначимых императивов, проявляющих себя в виде социокультурных образований, то есть задающих интегральные связи внутри общества посредством общественных отношений. Так, по мнению Р. Генона, все традиционные культуры в основе своей имеют один и тот же принцип организации, то есть Примордиальную Традицию, по отношению к которой сами они выступают в качестве ее вторичных форм, обусловленных исторически свойственными каждой из них особенностями [9, с. 511].
Развитие истории, а вместе с ним деградация человеческой культуры и общества обусловлена, согласно учению Генона, действием циклических законов. В соответствии с этими законами сущее на момент его возникновения в большей степени подвержено влиянию гармонизирующего принципа (Пуруши), более того, сознание человека имеет свойство воспринимать это влияние и реализовывать его в своей жизни, но с течением времени нарастает влияние деструктивного начала (Пракрити), приводящее мир к хаосу, признаками которого, как считает Р. Генон, является рационализм, индивидуализм, гуманизм и демократические общества [8, с. 232]. «Самые решительные доводы против демократии, – пишет Р. Генон, – можно сформулировать следующим образом: высшее не может происходить из низшего, поскольку из меньшего невозможно получить большее, а из минуса плюс. Это абсолютная математическая истина, отрицать которую просто бессмысленно» [9, с. 487].
Но вот что представляет особый интерес в концепции Р. Генона, так это его теория элит. Сам французский традиционалист после принятия ислама вел жизнь традиционного суфия и практически не выезжал из Каира. Его философские труды были, без сомнения, адресованы европейскому читателю, но Р. Генон был крайне осторожен в своих политических высказываниях и идеях, однако его философия серьезно сказалась на мышлении и политических инициативах последователей, в частности, здесь мы можем привести в пример итальянского потомка аристократического рода – барона Ю. Эволу.
Итак, возвращаясь к проблеме теории элит Р. Генона, следует заметить, что в основе ее, судя по всему, лежит индийское учение о гунах (аюрведа) или качествах человеческого ума, человеческой природы. Их смешение дает определенный тип человеческой личности и ее способностей, иначе говоря, с этой точки зрения люди принципиально различны по своей природе, а их социальное положение, род занятий и возможности определяются соотношением гун. На этой основе общество должно представлять из себя иерархизированную систему, где каждому отведена своя функция в соответствии со способностями [8, с. 243–246]. Р. Генон подвергает резкой критике современное представление об универсальности человека, то есть о его способности заниматься любым видом деятельности, в том числе политикой. Управление и организация общества – дело высшей элитарной части человечества, которая способна приобрести необходимые для этого знания только посредством инициации. В свою очередь, инициация – это не просто смена социального статуса, но принципиальное изменение природы человека путем приобретения некоего эзотерического знания, постичь которое способны только избранные [10, с. 94].
Л. Повельс в своей книге «Утро магов» заявил, что «фашизм – это генонизм плюс танковые дивизии» [11, с. 34]. Справедливо ли такое обвинение в адрес Р. Генона – решать не нам, но интересно в этой связи обратиться к критике фашизма в представлениях вышеупомянутого последователя, – Ю. Эволы. Он призывает к анализу фашизма без намеренного очернения или идеализации, то есть к беспристрастному взгляду на фашизм как течение правого толка. Философ заявляет, что «необходимо, насколько возможно, вычленить в фашизме идеи, роднящие его с великой европейской политической традицией, и отсечь те, которые в результате компромисса подверглись искажению или прямому извращению, что породило явления, пораженные тем же недугом, с которым намеревались бороться» [12, с. 281]. По мнению итальянского мыслителя, фашизм был реакцией на послевоенный кризис самой идеи государства, авторитета и центральной власти в Италии. Однако дальнейший анализ фашизма приводит к выводу о попытке Ю. Эволы реализовать философское теоретизирование своего учителя в конкретной политической доктрине.
Итальянский традиционалист высоко оценивает попытку фашизма вернуть государству некий мистический, трансцендентный смысл в противовес идеологиям либерального толка, в которых понятие власти понимается исключительно в функциональном смысле: как механизм обеспечения определенного набора прав, оставляющий индивиду свободу самоопределения. Такое извращение европейской политической традиции приводит к иррациональным и необъяснимым всплескам анархического и разрушительного бунта молодежи, разгорающегося в самых благополучных странах, что свидетельствует об абсурдности и отсутствии всякого смысла в социализированном, рационализированном и материалистическом существовании, втиснутом в рамки так называемого «общества потребления» [12, с. 298].
«В традиционном обществе эта проблема решалась благодаря наличию особой литургии или мистики верховной власти, составляющей неотъемлемую часть системы. Поэтому не стоит огульно осуждать шаги, предпринятые фашизмом в его стремлении сохранить общую атмосферу высокого напряжения. Скорее следует провести границу, за пределами которой эти начинания обретали пародийный и неподлинный характер. С одной стороны, это было вызвано несовпадением принципов и целей, с другой – отсутствием подходящих людей» [13, с. 177].
Ю. Эвола упрекает итальянский фашизм за нерешительность сделать государство и власть сакральными, как он говорит, «окончательно узаконить государство», чему мешали, по мнению ученого, натянутые отношения режима с католической церковью. Но без сакрализации государства попытки Б. Муссолини придать ему моральное содержание, с точки зрения Ю. Эволы, были обречены на провал, поскольку мораль, не имеющая укорененности в трансцендентном, есть не более, чем общественное соглашение. Нерешенность этой проблемы, когда отсутствует «высшая (в некотором смысле – преображающая) точка отсчета, которая, как было сказано, относится к уровню, превосходящему область простой этики», делает справедливым взгляд на фашизм как на некую разновидность «современной обмирщенной и «языческой» мистики». Отсюда проистекает и критика Ю. Эволой понятия «нации». Чувства к нации и родине он называет примитивными, что есть не более, чем плохо понятый «традиционализм». «В Италии, вследствие исторически сложившихся обстоятельств, это понятие не имело ничего общего с традицией, понимаемой в высшем смысле, но ассоциировалось с буржуазным, «благоразумным», умеренным и конформистским консерватизмом с католической закваской» [14, с. 39].
Одним из наиболее существенных недостатков фашизма Ю. Эвола называет тоталитаризм. Тоталитарное государство организует общество посредством вмешательства во все сферы жизни. Ю. Эвола противопоставляет тоталитарному государству образ традиционного государства, которое «органично, а не тоталитарно. Оно строится на иерархической основе и допускает существование частичной автономии. Оно координирует и сплачивает в высшем единстве силы, за которыми, однако, признает свободу. Благодаря своей силе оно не нуждается в механической централизации» [12, с. 196]. Тоталитаризм, свойственный фашизму, Ю. Эвола трактует как отклонение и напоминает читателю об изначальном желании Б. Муссолини создать иерархичное государство, в котором иерархии «должны обладать душой» и, в конечном счете, вырасти в элиту.
Здесь интересно будет прояснить два понятия: «свобода» и «элита». Свобода понимается Ю. Эволой вовсе не в значении политической свободы или свободы самореализации, свободы выбора и в прочих привычных нам значениях. Свобода – это возможность и даже обязанность индивида преодолеть свою природную сущность, когда он находится в отлаженном организме сакрального государства. Можно предположить, что за рассуждениями Ю. Эволы стоит свойственная восточной философии мысль о необходимости освобождения от пут материального мира и всякой привязанности к нему, о жертве собственной индивидуальности во имя безличного Абсолюта [15, с. 64].
Далее Ю. Эвола критикует итальянский режим за нежелание отказаться от партии. Само существование партии он считает абсурдным, но в еще большей степени его возмущает массовый характер фашистской партии, членство в которой навязывалось всем без разбора. Идея Ордена, по мнению философа, могла бы спасти ситуацию в том случае, если бы «энергия, первоначально воодушевлявшая фашистское движение национального и политического возрождения, после прихода к власти должна была преобразиться в естественную движущую силу, способствующую воспитанию и отбору соответствующего человеческого типа» [12, с. 201]. Но что означает этот «человеческий тип»? Ю. Эвола не дает разъяснений данному понятию, да, собственно, это и не относится к компетенции «кшатриев», к которым сам себя причислял итальянский традиционалист. Удел кшатрия – сила, поэтому за разъяснением мы вновь обращаемся к Р. Генону.
Человеческий тип, достойный принадлежать к интеллектуальной элите (интеллектуальной не в профанном, а в эзотерическом смысле), – это особая раса, обладающая высшей природой. В идуизме таковыми считались люди, принадлежащие к касте брахманов. Как известно, исторически каста брахманов была образована арьями или арийцами, вторгшимися в пределы Индии и заложившими основы ведической традиции. Из этого напрашивается вывод о том, что Ю. Эвола критикует итальянский фашизм за отсутствие в нем именно тех теоретических элементов.
Список литературы Политико-правовое учение традиционализма (от Р. Генона к Ю. Эволе): философская критика фашизма справа
- Дугин, А. Философия традиционализма. Серия: Новый Университет. М.: Арктогея-Центр, 2002. 622 с.
- Федорова, М. М. Традиционализм как антимодернизм // Полис. 1996. № 2. С. 143–160.
- Оганесян, Э. А. Мораль в пределах разума и веры: Б. Паскаль и С. Кьеркегор // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 5–1. С. 48–50.
- Федорова, М. М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли XIX в. М., 1997. 185 с.
- Колядко, И. Н. Христианство и западный логос: истоки кризиса новоевропейского проекта культуры // Экономика, христианство и социальные институты: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 28–29 января 2017 г.). Минск: OIKONOMOS: Изд-во Минской духовной академии, 2017. С. 43–44.
- Куликов, Е. А. Традиционалистское учение Рене Генона // Философская мысль. 2015. № 11. С. 1–54.
- Зобков, Р. А. Метафизическая, онтологическая и гносеологическая структура универсализма Рене Генона // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2019. № 1 (33). С. 218–224.
- Генон, Р. Общее введение в изучение индусских учений. М.: Беловодье, 2013. 320 с.
- Генон, Р. Кризис современного мира. М.: Эксмо, 2008. 784 с.
- Генон Р. Инициация и духовная реализация. М.: Тотенбург, 2020. 248 с.
- Повель, Л, Бержье, Ж. Утро магов. Посвящение в фантастический реализм. М.: Родина, 2020. 400 с.
- Эвола, Ю. Люди и руины. Критика фашизма: взгляд справа. М.: АСТ, 2005. 445 с.
- Эвола, Ю. Восстание против современного мира. М.: Прометей, 2016. 476 с.
- Седжвик, М. Традиционализм, Юлиус Эвола и Рене Генон: как эзотерическое становится политическим // Aliter. 2018. № 9. С. 38–52.
- Эвола, Ю. Герметическая традиция. Москва-Воронеж: TERRA FOLIATA, 2010. 272 с.