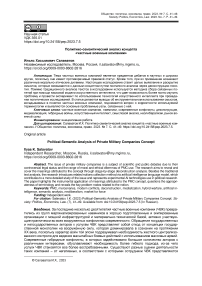Политико-семантический анализ концепта "частные военные компании"
Автор: Салаватов И.Х.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 7, 2023 года.
Бесплатный доступ
Тема частных военных компаний является предметом дебатов в научных и широких кругах, поскольку они имеют противоречивый правовой статус. Кроме того, при их применении возникают различные морально-этические дилеммы. Настоящее исследование ставит целью выявление и раскрытие смыслов, которые связываются с данным концептом путем поэтапного анализа через деконструкцию понятия. Помимо традиционного анализа текстов в исследовании используется методика сбора связанных понятий при помощи языковой модели искусственного интеллекта, что дает возможность более полно изучить проблему и провести эксперимент по использованию технологий искусственного интеллекта при проведении политических исследований. В статье делаются выводы об инструментальном использовании смыслов, вкладываемых в понятие частных военных компаний, поднимается вопрос о корректности используемой терминологии и выявляются основные проблемные узлы, связанные с ней.
Частные военные компании, наемники, современные конфликты, деконструкция, медивализация, гибридные войны, искусственный интеллект, смысловой анализ, неолиберализм, рынок военной силы
Короткий адрес: https://sciup.org/149143998
IDR: 149143998 | УДК: 355.01 | DOI: 10.24158/pep.2023.7.5
Текст научной статьи Политико-семантический анализ концепта "частные военные компании"
Независимый исследователь, Москва, Россия, ,
Independent Researcher, Moscow, Russia, ,
беспринципными наемниками, думающими только о наживе, до позитивных, когда дается высокая оценка профессионализма и эффективности деятельности таких компаний.
В рамках данного исследования предполагается рассмотрение концепта ЧВК с точки зрения анализа смыслов, которые связываются с ним. При этом под термином ЧВК понимаются юридически зарегистрированные компании, занимающиеся оказанием услуг военного характера широкого спектра – охраны, логистики, разведки и т.д. Исходя из используемых источников и инструментов анализ будет затрагивать преимущественно деятельность западных ЧВК в период до 2021 г.
Целью работы является раскрытие смыслов, связываемых с концептом ЧВК, и выявление ключевых проблемных узлов, имеющихся в восприятии данного феномена. Для этого в ходе исследования будет проведен его поэтапный смысловой анализ в направлении от общих представлений к частным контекстам.
Настоящее исследование отталкивается от идей политического постструктурализма, представленных французским философом Ж. Деррида (Derrida, 1967). Предполагается проведение деконструкции понятия ЧВК для выявления связанных с ним смыслов. Исследование разделено на четыре основных блока: анализ исторического контекста, разбор основных подходов к концепту ЧВК, интерпретация самого понятия и анализ семантического ряда связанных с ним понятий, сформированного при помощи англоязычной языковой модели искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4. Стоит отметить, что использование последней предполагает определенные ограничения, обусловленные характером исходных данных. Так, в модели не представлены материалы новее 2021 г.,1 а имеющиеся отражают западную картину мира. Вместе с тем использование таких современных инструментов для проведения исследования дает возможность изучить вопрос с нового ракурса и провести анализ большого массива данных, что потребовало бы значительных ресурсов при использовании традиционных методик.
Данное исследование позволит сформировать более объективную картину существующих отношений к феномену ЧВК и выявить существующие пробелы в его изучении, что представляется важным для совершенствования теоретических подходов и решения прикладных задач, связанных с формированием правовой базы или принятием политических решений. Также новизна исследования заключается в использовании технологий ИИ для формирования массива данных с целью их дальнейшего политического анализа.
Исторический контекст . Для общего понимания смыслового содержания концепта следует кратко рассмотреть исторический контекст, в котором он сформировался.
Наемничество само по себе является древним явлением и берет истоки в древнем мире. Воины-профессионалы, получающие за свой труд вознаграждение, участвовали во множестве конфликтов на протяжении всей истории, причем их использовали как малые государства, так и крупные империи (Gallaher, Dempsey, 2002). Расцвет наемничества наступил в Средние века и Новое время, когда из-за феодальной раздробленности в Европе использование коммерческих военных структур представляло собой выгодную альтернативу созданию собственной профессиональной армии или использованию ополчения. В дальнейшем со становлением Вестфальской системы, укреплением роли национальных государств и формированием профессиональных армий использование наемнических сил стало уделом более слабых акторов, а крупные игроки стремились укрепить свою монополию при помощи насилия (McFate, 2015), поэтому в общественном создании начал формироваться негативный образ наемников, поскольку они не вписывались в рамки новой системы. Вместе с этим коммерческие армии достаточно широко использовались в рамках колониальной системы2 и в отдельных случаях, когда государствам было выгодно обращаться к их услугам (McFate, 2015).
Интерес к наемникам снова возник после Второй мировой войны в ходе постколониальных конфликтов, когда были созданы первые ЧВК (Contos et al., 2007), а в дальнейшем стал развиваться в рамках неолиберальной стратегии по делегированию части государственных функций частным компаниям (contracting out, или аутсорсинг) (Сафранчук, 2012). Увеличение численности и усиление значимости ЧВК произошло во время проведения военных операций в Афганистане (2001–2021) и Ираке (2003–2011)3, в которых США активно использовали частные компании по политическим и практическим мотивам, поскольку они давали возможность сократить количество военнослужащих, задействованных в конфликте, что позволяло отчитываться о действиях ограниченным контингентом, а также занижать информацию по фактическим потерям, поскольку информацию о потерях ЧВК можно было не предавать публичной огласке и в целом деполитизировать конфликт (Johnston, 2009). Несмотря на ряд негативных инцидентов1, опыт США продемонстрировал преимущества использования ЧВК, что привело к их распространению и в других странах. Более того, возникновение концепции гибридных войн способствовало расширению спектра деятельности ЧВК, которые начали специализироваться на информационно-аналитической работе.
Стоит отметить, что ЧВК существуют в «серой» правовой зоне, поскольку, с одной стороны, наемническая деятельность, как уже было отмечено выше, является незаконной, а с другой – в рамках существующей практики использование ЧВК стало нормой в современных конфликтах. Это в целом отражает англосаксонский подход к правовым вопросам, который основывается на правовых обычаях и который привел к созданию концепции международного порядка, основанного на правилах (а не на нормах международного права). В этом смысле использование ЧВК является частью реализации этой концепции, причем для дополнительной легализации ее США инициировали разработку юридически не обязывающего документа Монтрё2.
Вызовом для сформированной западными странами концепции применения ЧВК стало возникновение таких компаний в России и Китае – странах, действующих в своих интересах и представляющих угрозу для Запада в отдельных регионах, причем их формирование пошло по несколько иной модели, однако это выходит за рамки данной работы и может стать темой отдельного исследования.
Исходя из такого исторического контекста, можно говорить о том, что возникновение ЧВК как явления представляет собой попытку адаптировать под современные реалии многовековую традицию использования наемных вооруженных сил, которая обусловлена стремлением геополитических игроков гибко реагировать на возникающие вызовы. При этом на протяжении истории наблюдается трансформация отношений государственных акторов к использованию наемников, обусловленная исключительно прагматическими соображениями.
Подходы . На основе анализа имеющейся литературы, в которой рассматривается концепт ЧВК, можно выделить несколько основных подходов, которые демонстрируют смыслы, вкладываемые в это понятие различными исследователями, политиками и наблюдателями. Рассмотрим основные из них:
-
1. Консервативный подход. В его рамках концепция применения ЧВК в основном сопровождается критикой, поскольку отмечаются дополнительные риски и угрозы, которые возникают при использовании ЧВК, по сравнению с применением традиционных регулярных вооруженных сил. Поднимаются вопросы легальности ЧВК с точки зрения международного права (Prado, 2011: 158), морально-этических аспектов, связанных с деятельностью ЧВК (Кашников, 2011), а также потенциального влияния ЧВК на эскалацию конфликтов и усложнение их урегулирования (Lees, Petersohn, 2021), непрозрачности их деятельности (Prem, 2020). При этом речь, как правило, идет не о запрете ЧВК, а прежде всего о регулировании и мониторинге их деятельности3.
-
2. Прагматический подход. ЧВК рассматривается как удобный инструмент реализации национальных интересов, поскольку позволяет решить ряд задач, стоящих перед государствами в рамках современных конфликтов4. Так, использование ЧВК помогает снизить политические из-держки5 и дает возможность более гибкого применения военной силы. Также сторонники прагматического подхода отмечают определенные выгоды, связанные с повышением эффективности операций с использованием ЧВК за счет распределения обязанностей между коммерческими военными и регулярными силами, когда частные компании берут на себя обязательства по решению тех или иных задач, высвобождая дополнительные силы для других целей. Отмечается и возможность экономии бюджетных средств за счет использования ресурсов ЧВК. Например, привлечение компаний с собственным парком транспортной авиации для доставки военных грузов для некоторых стран может быть выгоднее закупки летательных аппаратов, особенно, если их применение предполагается в ограниченных операциях (Perry, 2009).
-
3. Неолиберальный подход. В целом он схож с прагматическим, и многие аргументы могут совпадать, поскольку он тоже предполагает выгоду от применения ЧВК, однако при этом больший акцент делается на применении рыночных инструментов и коммерциализации военной сферы (Ettinger, 2011). В рамках этого подхода предполагается делегирование части государственных функций, на которые государство традиционно сохраняло монополию, частным компаниям, что предполагает снижение издержек за счет более эффективной работы в условиях
-
4. Концепция неомедивализма. Сторонники такого подхода видят в подъеме ЧВК признаки возвращения к средневековым порядкам, когда также было распространено наемничество (Bunker, Ligouri Bunker, 2016: 327). Они указывают на наличие схожести элементов средневекового и современного миропорядков, таких как технологическая унификация мира, региональная интеграция государств, подъем транснациональных организаций, дезинтеграция государств и приватизация права на насилие на международном уровне (McFate, 2015). Таким образом, в рамках этой концепции возникновение ЧВК и усиление их роли в современных конфликтах является закономерным процессом в результате возникновения особой конфигурации миропорядка, при которой государственные акторы теряют былую значимость, активизируются негосударственные частные структуры, происходит отход от Вестфальской модели ведения войны и возникает рынок военной силы.
-
5. Эмоциональный подход. Прежде всего характерен для журналистских публикаций и практически не встречается в научной литературе. Он предполагает восприятие концепта ЧВК, исходя из устоявшихся представлений в обществе, сформированных в том числе идеологическими штампами периода холодной войны, когда ЧВК были достаточно маргинализированы. Как правило, здесь идет речь о темах, связанных с большей жестокостью сотрудников ЧВК по сравнению с военнослужащими регулярных армий, беспринципностью и жаждой наживы. Одной из причин использования такого подхода может быть желание изданий привлечь дополнительную аудиторию, поскольку подобные темы вызывают повышенное внимание широкой публики. Также такой подход активно используется в рамках информационного противостояния для создания негативного образа противника, который использует услуги ЧВК, или в рамках внутриполитической борьбы.
рынка. Здесь особое внимание уделяется вопросам саморегулирования отрасли ЧВК и формирования кодексов поведения, которые бы обеспечивали соответствие деятельности компаний профессиональной этике для предотвращения инцидентов, связанных с угрозой мирному населению или правам человека.
Очевидно, что во многом подходы пересекаются и могут сочетаться, а академические источники, как правило, представляют сразу несколько подходов, однако нюансы позволяют определить отношение автора или выступающего к вопросу и предположить наличие у него особых интересов или убеждений – например, военные могут придерживаться консервативного подхода из-за опасений потери престижа традиционных вооруженных сил, политики – оперировать неолиберальными идеями для обоснования перед избирателями расширения участия ЧВК в операциях и т.д.
Смысловой анализ концепта . В первую очередь необходимо рассмотреть составные части концепта.
Слово «частная» (private) предполагает контроль над чем-либо или управление чем-либо, осуществляемые физическими или юридическими лицами, а не государством. На практике это может ставиться под сомнение, поскольку между руководством ЧВК и государственными чиновниками, как правило, имеются тесные неформальные связи (McFate, 2019: 29), что обуславливает действие первых в интересах государства и фактическое отсутствие самостоятельности. Также этот термин может относиться к характеру уставного капитала компании, то есть означать, что долями в компаниях владеют физические и юридические лица, государственный капитал не представлен. Это-больше соответствует существующему положению дел, поскольку отсутствие бюджетных средств в составе уставного капитала обеспечивает большую гибкость применения ЧВК – отпадает необходимость в строгой финансовой отчетности, которая, как правило, имеется в отношении использования бюджетных средств, а также отсутствуют формальные юридические связи, которые могли бы послужить для обвинения государственных органов или чиновников в нарушениях, которые могут возникать в результате деятельности ЧВК, например, при проведении тайных операций или в случае возникновения жертв среди мирного населения по вине сотрудников ЧВК. Таким образом, термин «частная» служит для дистанцирования ЧВК от государственных акторов, но вместе с этим не исключает возможности их неформальной деятельности в интересах государства.
Следующий элемент – «военная» (military) – говорит о характере деятельности ЧВК – они занимаются вопросами, связанными с военными задачами. При этом термин можно трактовать очень широко – от непосредственного участия в боевых действиях, что наиболее распространено в массовом сознании, до аналитической работы, которая даже не предполагает нахождения сотрудников в зоне боевых действий. То есть здесь имеется в виду не обязательное участие в деятельности компании вооруженных сотрудников, а соответствие ее характера задачам широкого спектра, которые стоят перед традиционными вооруженными силами. Также этот термин отчасти характеризует персонал компаний, поскольку для решения обозначенных задач преимущественно используются люди с соответствующим опытом, то есть отслужившие в вооруженных силах (Phelps, 2014).
Слово «компания» (company) означает организацию, ориентированную на получение прибыли, то есть предполагается, что основной мотив деятельности ЧВК – это получение прибыли. Из этого происходит основная причина негативного отношения граждан к ЧВК, связанная с осуждением их финансовой заинтересованности в конфликте, из-за которой они стремятся к повышению его интенсивности и жестокости. Также этот термин разграничивает ЧВК с некоммерческими организациями (НКО), занимающимися гуманитарной деятельностью, не связанной с получением прибыли, и государственными органами, действующими в национальных интересах. Таким образом, в термине ЧВК дважды содержится отрицание государственного участия. Вместе с тем стоит уточнить, чем отличается получение прибыли военной компанией от финансирования деятельности НКО при помощи гранта или от бюджетного содержания государственного органа? Насколько сильно будет отличаться мотивация разведывательного органа, получившего дополнительное финансирование для проведения специальной операции, от мотивации ЧВК, заключившей контракт на реализацию аналогичной задачи, если речь идет не о получении сверхприбылей, а лишь о премиях для руководства и сотрудников? В зависимости от ответа на эти вопросы и будет меняться отношение к характеру деятельности ЧВК –можно говорить либо о слепой погоне за наживой руководства и владельцев ЧВК, либо о наличии у них определенных ценностей (Malešević, 2018: 46), из-за которых финансовые причины отходят на второй план.
Также для полноты картины необходимо рассмотреть синонимы, которые могут использоваться для обозначения ЧВК. Во многом они дублируют уже имеющиеся в понятии ЧВК смыслы – так, например, Private Military Firm (частная военная фирма) является полным аналогом по содержанию, а в терминах Private Security Company (частная охранная организация) или Private Military and Security Company (частная военная и охранная организация) лишь уточняются направления деятельности структуры. Несколько выделяются здесь термины Military Service Providers (поставщики военных услуг) и Security Support Companies (компании, оказывающие поддержку в области охраны), поскольку в них содержится акцент на ориентированность компаний конечного заказчика услуг, то есть снижено восприятие акторности ЧВК. Обозначение ЧВК термином Mercenaries (наемники), Mercenary Units (подразделения наемников) или Mercenary Companies (наемнические компании) несет в себе негативное отношение автора или выступающего, поскольку подразумевает нелегальность такой деятельности (наемничество запрещено уставом ООН и национальным законодательством отдельных стран) и акцентирует внимание на жажде наживы ЧВК за счет участия в войнах.
Термину «наемник» необходимо уделить особое внимание, поскольку он является ключевым для понимания феномена ЧВК. Классическое определение наемника, содержащееся в Женевской конвенции, предполагает, что он:
-
1. нанят для участия в конфликте;
-
2. принимает фактическое участие в военных действиях;
-
3. мотивирован жаждой личной выгоды, причем материальное вознаграждение должно превышать денежное довольствие комбатантов из регулярных вооруженных сил;
-
4. не является гражданином или резидентом территории, контролируемой стороной конфликта;
-
5. не является военнослужащим стороны конфликта;
-
6. не направлен третьей стороной в качестве члена ее вооруженных сил1.
Анализ данного определения дается в комментариях к документу Монтрё2, где делается вывод о том, что, как правило, сотрудники ЧВК не являются наемниками, так как могут напрямую не участвовать в боевых действиях или получать скромное или сопоставимое вознаграждение, что действительно имеет место (Batka et al., 2020), но в отдельных случаях некоторые сотрудники могут все же считаться наемниками (Феномен частных военных компаний в военно-силовой политике государств в XXI в. …, 2017: 135). Безусловно, это является попыткой обойти неудобные формулировки, которые усложняют деятельность существующих компаний.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящий момент отсутствует правовая база, которая позволяет однозначно отличить сотрудника ЧВК от наемника, но на идеологическом уровне можно отследить разницу использования терминов – она схожа с употреблением в русском языке терминов «шпион» и «разведчик»: когда речь идет о действиях враждебной стороны, используется термин «наемник», а в положительном или нейтральном контексте применяется выражение «сотрудник ЧВК». Примечательно, что сами сотрудники ЧВК иногда называют сами себя наемниками (и иными соответствующими синонимами, например, «солдаты удачи» или «дикие гуси») для бравады, подчеркивая свою независимость и мужественность, поэтому можно говорить о наличии субкультуры, романтизирующей их деятельность3.
Исходя из вышесказанного можно сделать промежуточный вывод о том, что концепт ЧВК является очень размытым термином, который может использоваться в отношении широкого спектра организаций, занимающихся различными видами деятельности. Основные рамки, которые задает этот термин, – это то, что деятельность ЧВК так или иначе связана с военными вопросами. В остальном он оставляет широкое пространство для маневра, поскольку согласно формальному определению ограничивает участие государственных акторов в деятельности ЧВК, но на практике, наоборот, дает им возможность использовать ЧВК в качестве гибкого инструмента для решения стоящих перед ними задач.
Анализ массива связанных терминов . Следующий этап анализа предполагает разбор данных, полученных при помощи языковой модели GPT-4. Были выделены три уровня анализа концепта ЧВК – общие ассоциации, описание деятельности, характеристика сотрудников; для каждого из этих уровней был сформулирован запрос для вывода 100 наиболее часто употребляемых словосочетаний, которые в дальнейшем были сведены в матрицу для группировки по темам для выявления основных трендов.
Для уровня общих ассоциаций был сделан запрос вида «What are the most frequently used word combinations or phrases (collocations) that are associated with the term Private Military Company?» («Какие наиболее часто употребляемые словосочетания или фразы ассоциируются с термином “частная военная компания”?»). Полученные результаты были сгруппированы по блокам в зависимости от их смыслов. Наиболее обширная группа словосочетаний относится к общим терминам (27 %) и не представляет интереса в рамках данного исследования, а группа, относящаяся к видам деятельности (5 %), рассматривается на следующем этапе. Наиболее частотными оказались термины, относящиеся к регулированию деятельности ЧВК и иным правовым вопросам (22 %), на втором месте идут вопросы этики (12 %), а на третьем – риски (8 %). Это говорит о значительном внимании граждан к темам, связанным с недостаточным регулированием сферы ЧВК. Далее следуют термины, связанные с оценкой эффективности деятельности ЧВК (7 %) и их прозрачности (7 %). Затем – словосочетания, относящиеся к сотрудникам ЧВК (6 %), причем негативный термин «наемники» (mercenaries) встречается лишь единожды, а большее внимание уделяется управленческой структуре и механизмам отбора кандидатов. Примечательна достаточно низкая частотность терминов, связанных с участием ЧВК в боевых действиях (4 %). Меньше всего терминов, относящихся к финансовым вопросам (2 %).
Из этого можно сделать промежуточный вывод о том, что основное внимание уделяется не критике деятельности ЧВК, а формированию правил их работы и механизмов оценки для повышения подотчетности. Интересным наблюдением является то, что темы, связанные с участием в боевых действиях и финансах оказались наименее частотными, что говорит о низком уровне ассоциаций у респондентов деятельности ЧВК с наемничеством.
На следующем этапе был сделан запрос «What are the most frequently used word combinations or phrases (collocations) that are used to describe the activity of Private Military Companies?» («Какие наиболее часто употребляемые словосочетания или фразы используются для описания деятельности частных военных компаний?»). Группировка сочетаний была сделана по видам деятельности. Так, большая доля пришлась на охранную деятельность (17 %), что говорит о том, что, возможно, более корректным в соответствующем контексте является использование терминов PMSC (частная военно-охранная компания) и PSC (частная охранная компания), поскольку они больше соответствуют основному профилю их деятельности. Следующим по частотности указания направлением стали виды деятельности, связанные с планированием и менеджментом (15 %), с обработкой данных (15 %) и консалтингом (6 %), в их рамках предполагается привлечение сотрудников ЧВК в качестве экспертов для организации деятельности в соответствующих областях. Отдельно можно выделить разведывательную и контрразведывательную деятельность (8 %), она также предполагает работу с информацией, но работа в этом направлении повышает значимость ЧВК на различных уровнях, вплоть до стратегического, следовательно, к качеству и непредвзятости получаемой информации должны предъявляться особые требования. Далее идет обучение в различных областях (10 %), что является важной задачей, поскольку ЧВК активно применяются для подготовки регулярных вооруженных сил и полицейских формирований. Довольно большая доля (8 %) – у видов деятельности, связанных с гуманитарной сферой и миротворчеством (3 %), что, вероятно, обусловлено активным задействованием ЧВК в рамках реализации концепции гуманитарных интервенций. Следующая группа видов деятельности предполагает тесное взаимодействие с государственными структурами – это непосредственное оказание поддержки вооруженным силам/силовым структурам (4 %), обеспечение логистики (4 %) и антитеррор (3 %). Направления, связанные с технологической поддержкой, в том числе с кибербезопасностью, составили 4 %. Наименее частотными оказались термины, относящиеся к непосредственному участию в боевых действиях (2 %).1
Здесь становится отчетливо заметным преобладание внимания к видам деятельности, не связанным с прямым участием в боевых действиях, но относящихся к вспомогательным. Примечательна большая доля услуг информационного характера, что предполагает рост политического влияния ЧВК, так как от их трактовок могут зависеть решения, принимаемые на государственном уровне, то есть ЧВК могут быть использованы в качестве политического инструмента или они сами могут создавать иллюзию необходимости их услуг для повышения спроса на них (Leander, 2005).
Для третьего этапа анализа был сформулирован запрос «What adjectives are most frequently used to describe Private Military Companies’ employees?» («Какие прилагательные чаще всего используются для описания сотрудников ЧВК?»). В первую очередь стоит отметить, что при первичном рассмотрении выдачи обнаружилось повторение слов, то есть очевидно, что в исходных базах данных оказалось недостаточно информации для подбора 100 уникальных слов. Также полученный список оказалось невозможно упорядочить по категориям, как это было сделано на остальных этапах, поскольку подавляющее большинство терминов оказалось положительными характеристиками профессиональных качеств сотрудников ЧВК (ответственный, адаптирующийся, надежный, подготовленный и т.д.). Можно лишь выделить отдельные нейтральные термины, отражающие характер деятельности (вооруженный, экипированный, тактический и т.д.), а негативные прилагательные в выдаче не встречаются вовсе.
В данном случае достаточно сложно сделать какие-либо однозначные выводы, поскольку очевидна недостаточность исходных баз языковой модели, однако в целом можно судить о доминировании позитивной оценки профессиональных качеств сотрудников ЧВК в источниках, использованных при обучении модели ИИ.
Выводы и заключение . Проведенное исследование дает возможность сделать некоторые наблюдения и выводы касательно понятия ЧВК. Во-первых, очевидно, что вне зависимости от подхода к феномену, к нему преобладает инструментальное отношение – если сторонники использования ЧВК вкладывают в это понятие смыслы профессионализма и эффективности для дальнейшего продвижения этой деятельности, то критики смещают акцент на негативные образы наемников в качестве устрашения публики для достижения своих целей, например, сохранения старых порядков или для очернения образа противника или политических оппонентов в СМИ.
Таким образом, ЧВК становятся не только инструментом в смысле их непосредственного использования для решения задач, лежащих в сфере их компетенций, но также становятся инструментом политического противоборства. Во-вторых, исследование связанных терминов демонстрирует, что характер деятельности западных ЧВК в наименьшей степени предполагает непосредственное участие в боевых действиях, а основная работа идет в области охраны, обучения, консультирования и обработки информации, в связи с чем возникает вопрос о корректности использования термина «PMC» (ЧВК), а не более точно подходящих «PMSC» или «PSC». В русском языке данному термину будет приблизительно соответствовать аббревиатура ЧВОК – частная военная и охранная компания), что будет более правильным с точки зрения характеристики деятельности (Небольсина, 2022: 110–112), но все же более устоявшимся сочетанием в прессе и литературе остается ЧВК, что говорит о большем смысловом акценте именно на военный характер деятельности таких компаний, поскольку именно военный компонент задает проблемный характер феномена ЧВК. Здесь стоит сделать оговорку, что в исследовании рассматривались западные ЧВК в период до начала активных боевых действий на Украине, где сейчас они активно привлекаются для решения боевых задач. В-третьих, удалось выделить основные проблемные узлы в изучении феномена ЧВК – это вопросы регулирования и подотчетности деятельности ЧВК, темы профессиональной этики, а также анализ рисков, связанных с применением ЧВК. При этом анализ литературы демонстрирует конструктивный подход к решению этих проблем, предполагающий партнерские отношения государства и ЧВК, поскольку преимущественно речь идет не о запретительных мерах, а о выработке мер по регулированию и упорядочению деятельности ЧВК.
Наконец, на основе проведенного анализа можно ответить на частый вопрос, чем отличается сотрудник ЧВК от наемника. Если речь идет о вооруженных сотрудниках, непосредственно участвующих в боевых действиях, то отличия лежат в идеологической плоскости и зависят от позиции автора или говорящего. При этом наблюдается полярность смыслов, вкладываемых в эти понятия: если понятие «наемник» близко по смыслу к понятию «военный преступник», то с понятием «сотрудник ЧВК» связываются преимущественно позитивные смыслы, отражающие высокий профессионализм участников взаимодействия.
Отдельно можно сформулировать наблюдения по поводу использования инструментов ИИ для политических исследований. Несмотря на то, что в рамках данного исследования обозначенные инструменты имели ряд существенных ограничений, которые привели к недостаточно объективному раскрытию рассматриваемого феномена, можно предположить, что у них имеется большой потенциал для использования в дальнейших исследованиях, особенно при подключении специально подобранных массивов актуальных и верифицируемых данных в качестве исходной базы данных. Использование таких инструментов не требует от исследователя глубоких познаний в ин- формационной сфере и навыков работы со сложным программным обеспечением – формулирование запросов простым языком и обработка данных ИИ позволяет значительно упростить проведение различных видов методик исследования – как качественных, так и количественных.
Также необходимо отметить некоторую ретроспективность исследования, поскольку характер использования ЧВК в конфликте на Украине отличается от того, как использовались ЧВК ранее, и эти изменения еще не нашли отражение в академической литературе, которая выступала одним из источников данных для смыслового анализа в данном исследовании. Таким образом, имеется широкий простор для дальнейших научных изысканий в этой области, которые могут затрагивать происходящие в рамках трансформации и фокусироваться на изучении опыта использования ЧВК отдельными странами.
Подводя итог, можно подчеркнуть, что ЧВК остаются крайне удобным военно-политическим инструментом для решения различных задач. и было бы наивным полагать, что кто-либо из международных акторов будет готов однозначно отказаться от их использования. Поэтому представляется перспективным проведение исследований деятельности ЧВК и практик их применения для выработки теоретических и политических подходов, эффективных мер регулирования и методов защиты от связанных рисков.
Список литературы Политико-семантический анализ концепта "частные военные компании"
- Кашников Б.Н. Частные военные компании и теория справедливых войн // Российский научный журнал. 2011. № 1 (20). С. 83–94.
- Феномен частных военных компаний в военно-силовой политике государств в XXI в. / К.П. Курылев [и др.] // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2017. Т. 12, № 4. С. 130–149. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-04-130.
- Небольсина М.А. Частные военные и охранные компании (ЧВОК) в современных международных процессах // Международная аналитика. 2022. Т. 13, № 2. С. 107–133. https://doi/org/10.46272/2587-8476-2022-13-2-107-133.
- Сафранчук И.А. Генезис частных военных компаний: частная сила во второй половине XX-го века // Мир и политика. 2012. № 2 (65). С. 77–83.
- Batka C., Dunigan M., Burns R. Assessing Defense Industry: Prospects and Challenges // Defense & Security Analysis. 2020. Vol. 36, iss. 2. Р. 161–179. https://doi.org/10.1080/14751798.2020.1750180.
- Bunker R.J., Ligouri Bunker P. The Modern State in Epochal Transition: The Significance of Irregular Warfare, State Decon-struction, and the Rise of New Warfighting Entities Beyond Neo-Medievalism // Small Wars & Insurgencies. 2016. Vol. 27, iss. 2. Р. 325–344. https://doi.org/10.1080/09592318.2015.112916.
- Contos B.T., Crowell W.P., DeRodeff C., Dunkel D., Cole E., McKenna R. The Evolution of Physical Security // Physical and Logical Security Convergence. N. Y., 2007. Р. 15–58. https://doi.org/10.1016/B978-159749122-8.50006-5.
- Derrida J. De la Grammatologie. P., 1967. 445 p. (на фр. яз).
- Ettinger A. Neoliberalism and the Rise of the Private Military Industry // International Journal. 2011. Vol. 66, iss. 3. Р. 743–764.
- Gallaher J.G., Dempsey G.C. Napoleon's Mercenaries: Foreign Units in the French Army Under the Consulate and Empire, 1799–1814 // The Journal of Military History. 2002. Vol. 66, iss. 4. Р. 1202. https://doi.org/10.2307/3093283.
- Johnston K. Private Military Contractors: Lessons Learned in Iraq and Increased Accountability in Afghanistan // Georgetown Journal of International Affairs. 2009. Vol. 10, iss. 2. Р. 93–99.
- Leander A. The Power to Construct International Security: On the Significance of Private Military Companies // Millennium: Journal of International Studies. 2005. Vol. 33, iss. 3. Р. 803–825. https://doi.org/10.1177/03058298050330030601.
- Lees N., Petersohn U. To Escalate or Not to Escalate? Private Military and Security Companies and Conflict Severity // Studies in Conflict & Terrorism. 2021. Р. 1–24. https://doi.org/10.1080/1057610x.2021.1935700.
- Malešević S. From Mercenaries to Private Patriots: Nationalism and the Private Military Contractors // The Sociology of Privatized Security. Cham, 2018. Р. 45–66. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98222-9_3.
- McFate S. Mercenaries and War: Understanding Private Armies Today. Washington, 2019. 55 р.
- McFate S. The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order. Oxford, 2015. 248 р.
- Perry D. The Privatization of the Canadian Military: Afghanistan and Beyond // International Journal. 2009. Vol. 64, iss. 3. Р. 687–702.
- Phelps M.L. Doppelgangers of the State: Private Security and Transferable Legitimacy // Politics & Policy. 2014. Vol. 42, iss. 6. Р. 824–849. https://doi.org/10.1111/polp.12100.
- Prado del J.G.L. Impact on Human Rights of a New Non-State Actor: Private Military Companies // Brown Journal of World Affairs. 2011. Vol. 18, iss. 1. Р. 151–169.
- Prem B. The False Promise of Multi-Stakeholder Governance: Depoliticising Private Military and Security Companies // Global Society. 2021. Vol. 35, iss. 2. Р. 149–170. https://doi.org/10.1080/13600826.2020.1791055.