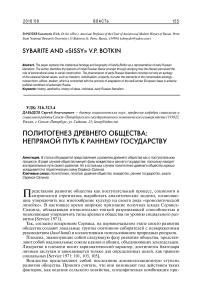Политогенез древнего общества: непрямой путь к раннему государству
Автор: Давыдов Сергей Анатольевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается представление о развитии древнего общества как о поступательном процессе. В ряде случаев общество минует фазы вождества и раннего государства, поскольку находит альтернативные пути своего развития. Но в остальных случаях политогенез древнего общества хорошо укладывается в теоретическую схему Сервиса-Салинза.
Политогенез, полития, древнее общество, вождество, раннее государство, шкала сервиса-салинза
Короткий адрес: https://sciup.org/170168503
IDR: 170168503 | УДК: 316.323.4
Текст научной статьи Политогенез древнего общества: непрямой путь к раннему государству
П редставляя развитие общества как поступательный процесс, социологи и антропологи стремились выработать аналитические модели, позволяющие упорядочить все многообразие культур на своего рода «хронологической линейке». В настоящее время широкое признание получила шкала Сервиса-Салинза, обладающая относительно тонкой разрешающей способностью и позволяющая упорядочить типы древнего общества по уровню социального развития [Service 1971].
Так, согласно воззрениям Сервиса, на первоначальном этапе своего развития общества создают локальные группы охотников-собирателей с невыраженным руководством ( local band ) и коллективным использованием природных ресурсов.
Племена, знаменующие собой следующую фазу развития общества, представляют собой надлокальные союзы кланов и общин, объединяющих земледельцев. Лидерство в племени носит харизматический характер, достигается благодаря личным заслугам и завоевывается только для определенных целей, как правило социальных [Service 1971: 101, 103, 105].
Вождества представляют собой последнюю доцивилизационную ступень развития общества. Принято считать, что они возникают под действием таких факторов, как ведение сельского хозяйства, специфическая комбинация при- родных условий, демографическая нагрузка на территорию и вóйны. Вождества предполагают существование устойчивого соподчинения агентов социальных отношений, наличие центра, координирующего социальную, хозяйственную и культурную жизнь общин [Service 1971: 133], который способен обеспечить сбор и перераспределение произведенных благ [Service 1971: 134].
И наконец, на завершающей фазе своего развития древние общества могут создавать раннее государство.
Имея своего рода «генетическую» связь с высшими доцивилизационными формами общественного развития – племенем и вождеством, раннее государство все же отличается от них рядом существенных признаков.
Обобщая имеющиеся подходы к анализу признаков раннего государства, А.Е.Гринин пишет: «1. Общества не могут быть меньше определенного размера и сложности (самое меньшее несколько тысяч жителей). Хотя чаще требуется больший размер, а по мере развития государства его объемы, как правило, возрастают до многих тысяч (часто до десятков и сотен тысяч и даже миллионов человек). 2. В обществе должен иметься определенный производственный базис в виде сельского хозяйства, ремесла и торговли (два последних в отдельных случаях заменяет военно-данническая эксплуатация соседей). 3. В обществе должна быть заметная социальная стратификация. 4. Необходим определенный уровень политической и структурно-управленческой сложности, по крайней мере, должно быть не меньше трех уровней управления, а чаще – больше» [Гринин 2006: 88].
Как следует понимать, типология Сервиса-Салинза не только выражает различие состояний общественной организации, но и представляет собой аналитическую модель процесса последовательной их смены – от акефальных локальных групп и до раннего государства с присущими ему иерархической структурой, редистрибуцией и реципрокностью, бюрократическим аппаратом и символическим насилием.
Необходимо оговориться, конечно, что принятие социологом подобной аналитической схемы совсем не означает его согласия с утверждением о неизбежности возникновения раннего государства в общественно-историческом процессе.
Так, в своей работе «Четыре грани эволюции» Карнейро показал, что к определенному уровню хозяйственного развития могут вести различные способы организации общества [Carneiro 1973]. Эта же идея звучит в работах отечественных социологов и антропологов. Так, Д.М. Бондаренко, Л.Е. Гринин и А.В. Коротаев в статье «Альтернативы социальной эволюции» отмечают: «…для нас важно наличие, по нашему мнению, оснований полагать, что одинаковый уровень социополитической и культурной сложности (который позволяет разрешать одинаково трудные проблемы, стоящие перед обществами) может быть достигнут не только в различных формах, но и разными эволюционными путями. Таким образом, к одному уровню сложности системной организации можно прийти по разным траекториям развития» [Бондаренко, Гринин, Коротаев 2006: 15].
И у этой точки зрения есть весомые аргументы.
С одной стороны, нам известны многочисленные исторические и этнографические примеры негосударственных образований, которые по уровню сложности социальной организации и уровню развития хозяйства, по крайней мере, не уступали государствам. Примером могут служить гетерархии, где наблюдается такое отношение социальных агентов друг к другу, «при которых они или не стратифицированы, либо существует несколько потенциально возможных вариантов их соподчинения» [The Early Monarchy… 2007: 3].
К числу гетерархий обычно относят афинскую гражданскую общину – полис V–IV вв. до Р.Х. В своем развитии афинский полис, без сомнения, достиг уровня культурной сложности не только сложного вождества, но и раннего государства [Berent 1994]. В нем, как сегодня хорошо известно, одновременно существовали несколько иерархических систем – политическая, военная, духовная, религиозная, экономическая, притом высокое место человека в одной иерархии отнюдь не гарантировало ему столь же высокое место в другой. В некоторых своих признаках афинская полития ничуть не уступала раннему государству. Например, афиняне в процессе управления пользовались письменностью, а их хозяйственная деятельность опиралась на достаточно развитые рыночные институты. В отличие от спартиатов, которые для сбора податей с илотов всякий раз объявляли им войну и по древнему праву «победителей» забирали половину урожая, афиняне создали регулярную систему налогообложения. Но при этом полис не располагал многими системообразующими признаками государства. Профессиональная бюрократия была малочисленной и не имела сколько-нибудь значимого влияния на общество, а судейский корпус был не профессиональным и формировался из граждан, преодолевших определенный имущественный ценз. Похожим образом можно охарактеризовать и римские civitas [Штаерман 1989].
С другой стороны, у нас есть примеры, хотя и не столь известные и многочисленные, опровергающие представления о неизбежности поступательного развития социальной системы в сторону ее иерархизации и о зависимости экономического развития от уровня социальной организации. Скажем, политические организации Ближнего Востока и Центральной Азии, существовавшие в Средние века и включавшие в себя несколько общин с лидерством, характерным для племени [Carneiro 1981: 39], по-видимому, возникли в результате распада хронологически предшествующих им вождеств. Интересно отметить, что процесс политической децентрализации этих средневековых «племен» не сопровождался хозяйственной деградацией и ухудшением условий жизни [Коротаев 1995].
Существуют и другие примеры, когда опережающих темпов экономического развития добивались общества, «отстающие» в плане социального развития. Так, у относительно отсталых в экономическом отношении индейцев юго-востока Калифорнии власть доставалась вождям уже по наследству, в то время как у значительно более развитых в экономическом плане племен северо-запада Калифорнии вожди не имели ясно выраженного статуса, а сам статус напрямую зависел от количества находившихся в распоряжении человека материальных благ [Кабо 1986: 180]. Аналогичная картина наблюдалась у филиппинских племен ифугао, которые сумели создать довольно сложную структуру экономических отношений, но обходились при этом без авторитарной наследственной аристократии [Мешков 1982: 183-197].
Все это дает веские основания полагать, что государство было не единственным и не универсальным направлением развития первобытных обществ, «что были и иные, альтернативные пути для развития подобных обществ, помимо превращения в раннее государство» [Гринин 2006: 86].
Принимая эти аргументы и следствие из них, стоит заметить, что они никак не подрывают эвристической ценности модели Сервиса-Салинза по двум причинам.
Во-первых,наосновеанализабольшинстваизвестныхнамкультурвсеженаблю-дается достаточно сильная корреляционная связь между уровнем хозяйственного развития и сложностью социальной организации. Неспециализированные номады-собиратели обычно имеют акефальную структуру и не знают иерархии, а развитое земледелие, как правило, возникало и хорошо функционировало в рамках достаточно сильно стратифицированного общества. Кроме того, децентрализация иерархических систем в историческом процессе выглядит куда более редким явлением, чем образование иерархий и государств из негосударственных политий.
Во-вторых, современная наука располагает весьма богатым историческим и этнографическим материалом, чтобы с высокой долей уверенности судить об адекватности объяснительной модели Сервиса-Салинза в тех случаях, когда образование ранних государств все-таки становилось исторической реальностью.
Здесь, прежде всего, обратим внимание на то, что вождество в определенном смысле несет в себе потенциал раннего государства. Например, в ходе описания социальной организации в небольших группах южноамериканских индейцев К. Оберг так определил общие признаки, выражающие семантику этого понятия: «Вождества ( chiefdom ), – писал он, – состоят из множества поселений и управляются верховным вождем, под властью которого находятся районы и поселения, управляемые иерархически соподчиненными вождями. Отличительной чертой этого типа политической организации является то, что вожди имеют судебную власть регулировать споры и наказывать преступников вплоть до смертного приговора и – под руководством вождя – реквизировать людей и запасы на нужды войны» [Oberg 1955: 484].
Результаты наблюдений других антропологов хорошо согласуются с этим описанием и позволяют выявить общие признаки вождества, приближающие его к раннему государству. Так, хотя у вождя, как правило, отсутствует аппарат принуждения, он уже способен добиваться исполнения принятых решений, привлекая свой авторитет и опираясь на свою символическую власть [Service 1962]. Хотя вожди не опираются на закон, они уже располагают судебной властью и отправляют судопроизводство. Хотя вожди не опираются на систему регулярного налогообложения, они располагают правом отчуждать ресурсы от домохозяйств и перераспределять продукты. Хотя социальная иерархия вождества не носит формальный характер, вожди фактически стоят во главе вертикально интегрированного общества и управляют им через своих наместников – локальных подчиненных им вождей или своих родственников [Карнейро 2000: 89].
Несложно понять, что эти все характеристики позволяют рассматривать вожде-ство одновременно и как наиболее развитую форму доцивилизационного общественного устройства, и как способ социальной организации, содержащий в себе ростки раннего государства. Именно поэтому понятие вождества очень скоро вошло в арсенал аналитических инструментов неоэволюционизма [Service 1971], а соответствующий ему тип социальной организации начал рассматриваться как ступень общественного развития, занимающая промежуточное положение между локальным сообществом или племенем и ранним государством [Heterarchy and the Analysis… 1995].
Список литературы Политогенез древнего общества: непрямой путь к раннему государству
- Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2006. Альтернативы социальной эволюции. -Раннее государство, его альтернативы и аналоги: сборник статей (под ред. Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева). Волгоград: Учитель. С. 15-36
- Гринин Л.Е. 2006. Раннее государство и его аналоги. -Раннее государство, его альтернативы и аналоги: сборник статей (под ред. Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева). Волгоград: Учитель. С. 85-163
- Кабо В.Р. 1986. Первобытная доземледельческая община. М.: Наука. 302 с
- Карнейро Р. 2000. Процесс или стадии: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения государства. -Альтернативные пути к цивилизации. М.: Наука. С. 84-95
- Коротаев А.В. 1995. Апология трайбализма: Племя как форма социально-политической организации сложных первобытных обществ. -Социологический журнал. № 4. С. 68-86
- Мешков К.Ю. 1982. Филиппины. -Малые народы Индонезии, Малайзии и Филиппин (под ред. Н.Н. Чебоксарова, А.И. Кузнецова). М.: Наука. С. 175-226
- Штаерман Е.М. 1989. К проблеме возникновения государства в Риме. -Вестник древней истории. № 2. С. 76-94
- Berent M. 1994. Stateless Polis. Unpublished Ph.D. thesis manuscript. Cambridge: Cambridge University
- Carneiro R.L. 1973. The Four Faces of Evolution. -Handbook of Social and Cultural Anthropology (ed. by J.J. Honigman). Chicago. Р. 89-110
- Carneiro R.L. 1981. The Chiefdom: Precursor of the State. -The Transition to Statehood in the New World (ed. by G.D. Jones, R.R. Kautz). N.Y.: Cambridge University Press. Р. 37-79
- The Early Monarchy in Israel: the Tenth Century B.C.E. (ed. by W. Dietrich). 2007. Atlanta: Society of Biblical Literature. 378 p
- Heterarchy and the Analysis of Complex Societies (ed. by R.M. Ehrenreih, C.L. Crumley, J.E. Levy). 1995. Washington, D.C.: American Anthropological Association
- Oberg K. 1955. Types of Social Structure among the Lowland Tribes of South and Central America. -American anthropologist. Vol. 57. P. 472-487
- Service E.R. 1962. Primitive Social Organization. An Evolutionary Perspective. N.Y.: Random House
- Service E.R. 1971. Primitive Social Organization. 2nd ed. N.Y.: Random House