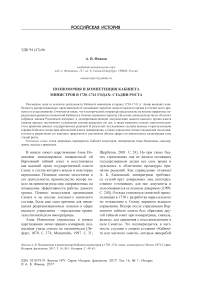Полномочия и компетенция Кабинета министров в 1730-1741 годах: стадии роста
Автор: Фаизов Артем Валерьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрен один из аспектов деятельности Кабинета министров в период 1730-1741 гг. Автор выявляет ошибочность распространенных представлений об одинаковом значении данного высшего органа в течение всего времени его существования. Отмечается также, что в исторической литературе представлены не вполне корректные периодизации развития полномочий Кабинета в течение указанного периода. На основе законодательства из «Полного собрания законов Российской империи» и делопроизводственной документации данного высшего органа власти показан процесс постоянного усложнения состава решаемых им дел, а также выяснена степень самостоятельности в принятии важных государственных решений. В результате исследования сделаны выводы о кристаллизации в форме Кабинета министров абсолютной власти императрицы, а также определена четкая стадиальная последовательность разрастания его властных прерогатив и увеличения объема сферы его компетенции, включающая семь стадий роста.
Эпоха дворцовых переворотов, кабинет министров, the сabinet of ministers, императрица анна иоанновна, самодержавие, высшее управление
Короткий адрес: https://sciup.org/147219697
IDR: 147219697 | УДК: 94
Текст научной статьи Полномочия и компетенция Кабинета министров в 1730-1741 годах: стадии роста
В начале своего царствования Анна Иоанновна ликвидировала ненавистный ей Верховный тайный совет и восстановила как высший орган государственной власти Сенат, в состав которого вошли и некоторые верховники. Понимая многие недостатки в его деятельности, правительство вскоре пошло на принятие ряда мер, направленных на повышение эффективности работы данного органа. Помимо недостатков организации Сената и не вполне лояльного сенатского состава, была еще одна причина для начавшихся реорганизационных поисков в сфере высшего управления – определение правительственной роли императрицы.
Анна Иоанновна стремилась в начале царствования лично править империей, подписывая указы совсем не механически [Лефорт, 1870. С. 374; Манштейн, 1997. С. 31;
Щербатов, 2001. С. 24]. Но при таких благих стремлениях она не желала посвящать государственным делам все свое время и нуждалась в облегчении процедуры принятия решений. Как справедливо отмечает А. Б. Каменский, императрице требовался «узкий круг доверенных лиц, непосредственно готовивших для нее документы и пользовавшихся ее полным доверием» [1999. С. 240]. Отсюда становится понятной происходившая в 1730 г. разработка параллельного по отношению к Сенату варианта высшего управления. Вскоре после упразднения Верховного тайного совета был образован другой тайный совет при императрице, сначала, видимо, для сравнения с восстановленным в силе Сенатом. Это подтверждается, в частности, слухами о скором создании «Кабинета или частного совета», которые наперебой
Фаизов А. В. Полномочия и компетенция Кабинета министров в 1730–1741 годах: стадии роста // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 1: История. С. 49–63.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 1: История © А. В. Фаизов, 2017
весной 1730 г. передавали своим правительствам иностранные посланники при русском дворе [Маньян, 1891. С. 521; Рондо, 1889. С. 193, 232; Осмнадцатый век, 1869. С. 62]. О его существовании уже в первый год правления Анны Иоанновны сообщал также сенатский доклад, поданный в декабре 1741 г. императрице Елизавете: «Потом (после издания манифеста о восстановлении полномочий Сената. – А. Ф. ) почти целый год тайно содержался в руках Остермана Кабинет…» [Доклад императрице..., 1897. С. 289]. Кроме того, указом от 10 августа 1731 г. Соляная контора была подчинена «Кабинету», еще не созданному официально [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 5827. С. 530–532].
Легализация же данного тайного совета и его превращение в высший орган с определенным составом – Кабинет Е. И. В. – произошли только осенью 1731 г. в результате двух секретных указов (от 18 октября, от 6 ноября ) и одного публичного указа (от 10 ноября 1731 г.). Задержка с официальным оформлением Кабинета была вызвана чрезвычайной непопулярностью среди дворянства ликвидированного Верховного тайного совета. В состав малочисленного Кабинета первоначально вошли действительный тайный советник князь А. М. Черкасский, вице-канцлер А. И. Остерман, канцлер Г. И. Головкин [Там же. № 5871. С. 552]. В дальнейшем его состав будет постепенно изменяться, но ключевой фигурой в Кабинете всегда будет оставаться А. И. Остерман.
Все три указа (от 18 октября, 6 и 10 ноября) были очень кратки, а сфера ведения Кабинета характеризовалась в них крайне неопределенно. В первом из них Сенату сообщалось, что «министры» будут докладывать императрице о делах и «объявлять, кому надлежит Ея резолюции» [Бумаги Кабинета..., 1898. С. 1] 1. Указ от 6 ноября предписывал Сенату сообщить об учреждении Кабинета другим центральным органам (1898. С. 5–6). Указ же от 10 ноября (публичный) определял круг полномочий Кабинета следующим образом: «Лучшее и порядочнейшее отправление всех Государственных дел, к собственному Нашему Всемилостивейшему решению подлежа- щих» [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 5871. С. 552]. Вся эта таинственность была связана с тем, что императрица не хотела привлекать большого внимания к факту создания нового высшего органа.
В отечественной исторической науке Кабинет министров, как и предшествовавший ему Верховный тайный совет, традиционно ассоциируется с идеальным типом всесильного совета вельмож, действовавшего при слабом правителе. Причем сущность Кабинета министров, как правило, представлялась одинаковой применительно ко всему более чем 10-летнему времени существования данного органа. Однако за этот довольно длительный период (в условиях, когда правительство Анны Иоанновны было вынуждено вести политику в тяжелых финансовых условиях послепетровской России) степень самостоятельности и статус высшего органа, не имевшего жестко прописанной компетенции, не могли пребывать в статическом состоянии. Попытки выделить этапы в развитии Кабинета министров предпринимались некоторыми учеными, прежде всего, в специальных работах.
Так, дореволюционный исследователь А. Н. Филиппов выделил в жизни Кабинета министров три этапа: 1) до указа от 9 июня 1735 г. – период расширения его полномочий; 2) после указа от 9 июня, сделавшего Кабинет равным по силе Верховному тайному совету; 3) 1740–1741 гг., когда Кабинет был разделен на департаменты [1897; 1898. С. LXI]. Но указанные им границы этапов не были должным образом аргументированы, качественные их характеристики оставались неопределенными, а заключения недосказанными [Филиппов, 1898. С. LXI].
С точки зрения другого дореволюционного автора, В. Н. Строева, Кабинет в своей эволюции прошел два этапа: до и после указа 1735 г. На первом из них Кабинет министров Анны Иоанновны, по его мнению, был подобен личной канцелярии Петра I [1909. С. 76], а на втором – «Кабинет становится высшим учреждением в государстве…» [Там же. 1910. С. 11]. При этом автор попутно приводил множество фактов, которые показывали, что полномочия аннинского секретариата были уже до 1735 г. гораздо большими, чем у петровской канцелярии. В следующей своей работе В. Н. Строев (в соавторстве П. И. Варыпаевым) утверждал иное: Кабинет министров имел «в сущности гораздо больше общего с Верховным тайным советом, чем с Кабинетом Петра Великаго» [1911. С. 290].
Современный исследователь деятельности Кабинета министров, Е. Н. Савельева, полагает, что «доминирующей линией» в развитии его компетенции «следует считать универсализацию» [2004. С. 14]. В динамике функций Кабинета она выделяет следующие этапы: 1) до октября 1731 г., когда «нелегальный» Кабинет выполнял поручения императрицы; 2) октябрь 1731 г. – июнь 1735 г. – «происходит сращивание функций личной Канцелярии и органа верховного управления»; 3) 1735–1740 гг. – «период расцвета» Кабинета министров, когда «политическая линия царствования» целиком разрабатывается «в стенах этого учреждения». Такая периодизация также вызывает вопросы. В частности, не получил обоснования период деятельности Кабинета до официального учреждения. Говоря о «сращивании» функций монаршей канцелярии и высшего органа, Е. Н. Савельева не уточняет, в какой последовательности и в связи с чем канцелярия получала новые задачи. Спорность характеристики третьего этапа состоит в том факте, что Кабинет министров и до 1735 г. формировал политический курс правительства Анны Иоанновны. Кроме того, Е. Н. Савельева ограничила свое исследование кончиной Анны Иоанновны, хотя Кабинет после этого просуществует еще около года.
В рамках данной статьи не ставится цель – окончательно разрешить вопрос о стадиях роста Кабинета министров Анны Иоанновны. Нашей задачей будет, учитывая богатый опыт работы предшественников, определить основные стадии развития Кабинета с точки зрения изменений по двум взаимосвязанным признакам – сфера компетенции и уровень полномочий. Для достижения цели принципиально важна правоприменительная практика, которую можно изучать либо по архивным документам, либо по делопроизводственным материалам. Однако источники личного происхождения по теме статьи за указанный период в архивах не отложились, а делопроизводство Кабинета министров практически полностью опубли- ковано; вследствие чего в данной работе используется комплекс ранее опубликованных источников (законодательные собрания и делопроизводственная документация Кабинета). В то же время необходимо подчеркнуть, что автор не претендует на полное раскрытие поставленных в статье вопросов, сопутствующих основной теме исследования.
Обратимся к первоначальным обязанностям нового государственного органа в 1730–1732 гг. Исходя из протоколов заседаний Кабинета, можно отметить, что через его посредство императрица утверждала административные постановления или «акты верховного управления», посвященные «высочайшей милости» (1898. С. 10, 15, 27, 28, 34 и др.), назначению на должности и увольнению в отставку (1898. С. 10–11, 14– 15, 27, 66 и др.), организации контроля над деятельностью госструктур и чиновников (1898. С. 96, 171, 194–195, 211 и др.), финансовым проблемам (1898. С. 66, 316, 320, 513 и др.); [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 6173. С. 914–915; № 6235. С. 958–960; № 6274. С. 984–986 и др.], флоту и армии (1898. С. 14, 65, 133, 136, 150 и др.); [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 5894. С. 569– 570; № 5914, 5915. С. 604 и др.], решению административно-полицейских задач и исполнению отдельных высочайших поручений 2. Кроме того, члены Кабинета занимались хозяйственными функциями, касающимися личного имущества и личных потребностей императрицы [Строев, 1909. С. 76].
Отмеченные дела вполне соответствуют компетенции обычной монаршей канцелярии, какой являлся, например, Кабинет Е. И. В. Петра I или Елизаветы Петровны. Таким образом, и при Анне Иоанновне в начале царствования, особенно в 1730 г., Кабинет представлял собой особый неофициальный секретариат самодержицы, который не покушался на прерогативы других правительственных органов.
Затем, сразу после официального учреждения Кабинет Анны Иоанновны выступает также как орган, ревизующий деятельность и финансовую отчетность других государ- ственных структур. Так, 6 ноября 1731 г. императрица предписала подать в Кабинет из Сената основные именные указы и регламенты всех государственных органов, копии важнейших резолюций и реестры нерешенных судебных дел из различных учреждений, табели из Военной коллегии, ведомости о расходах и доходах из Камер-коллегии и т. п. документы (1898. С. 5–8). Императрица вместе с министрами намеревалась изучить действующее законодательство и проверить эффективность деятельности различных государственных структур.
В продолжение этих постановлений 11 ноября 1731 г. последовал новый указ, касавшийся компетенции членов Кабинета. В этот день императрица, намереваясь установить справедливое и быстрое решение судебных дел, приказала присылать из Сената, Синода, коллегий и канцелярий ежемесячные рапорты в Кабинет для «собственного нашего в тех челобитчиковых делах усмотрения» [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 5872. С. 552–553]. Тридцатого декабря 1731 г. было «велено» ежемесячно присылать рапорты и реестры о решенных и нерешенных делах в новый высший орган (1898. С. 106). С этого момента «министры» стали контролировать дела самого разнообразного характера, а не только судебные. Последнее распоряжение, несомненно, увеличивало полномочия аннинского секретариата в сравнении с Сенатом и центральными органами.
Вскоре под воздействием постоянного недостатка денежных средств [Троицкий, 1964. С. 296–297] в непосредственное ведомство Кабинета перешли контрольные и финансовые органы. Помимо Соляной конторы (10 августа 1731 г.) [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 5827. С. 530–532] в их числе оказались: Счетная, Провиантская и Кригс-комиссариатская комиссии (август 1732 г.) [Там же. № 6155. С. 902]; (1898. С. 367), а в 1733 г. – также До-имочный приказ [ПСЗ-I, 1830. Т. 9. № 6412. С. 137–141]. Из всех этих мест запрещено было без именного указа требовать кому-либо счетов, ведомостей, рапортов, дел и посылать им какие-либо «повелительные указы».
В значительной мере «министры» занимаются финансовой проблематикой. Например, 16 ноября того же года предписывалось «подать» Анне Иоанновне ведомости о числе душ «внесенных и невнесенных в перепись» и о раскладке подушной подати (1898. С. 22– 23). В Кабинет поступают также ведомости по денежным сборам с петербургских жителей, о ходе взыскания недоимок, о «счислении государственных доходов и расходов», о составлении окладной книги и т. д. (1898. С. 8, 21–22, 29, 155); [ПСЗ-I. Т. 8. № 5939. С. 621; № 5983. С. 649–651; № 5988. С. 653; № 6072. С. 839; № 6105. С. 863–864 и др.].
Изначальная неопределенность юридического облика Кабинета объясняется, видимо, тем, что его создатели не вполне понимали, в какой форме удобнее воплотить участие императрицы и ее ближайшего окружения в высшем управлении, по возможности сохраняя петровскую систему во главе с Сенатом. Поэтому основные задачи и функции Кабинета вырабатывались его членами путем практической деятельности.
Что касается внешнеполитических дел, которые в журналах Кабинета подчеркнуто отделяются от внутренних (или «кабинетских»), то в 1731–1733 гг. в делопроизводстве аннинского секретариата они не имели большого значения. По «кабинетским» делам в журналах фиксируются доклады «министров» императрице, поднесение бумаг к подписи и объявления затем высочайшей воли. По «иностранным» же вопросам в этих документах встречаются лишь редкие указания на доклады императрице или записи о «чтении» самодержице реляций русских послов. Можно предположить, что решение дел «иностранных» осуществлялось либо Анной Иоанновной вне Кабинета (через того же А. И. Остермана и других лиц), либо – по менее важным делам – Коллегией иностранных дел. По мнению новейшего исследователя И. В. Курукина, «право принятия важнейших внешнеполитических решений» и организация контактов с иностранными дипломатами находились в руках «ближайших советников императрицы – К.-Г. Левенвольде и Бирона» [Курукин, 2003. С. 228].
Отметим, что члены канцелярии императрицы выполняли также некоторые судебные функции. Так, «министры» по поручению императрицы либо определяли для ведения следствия особые комиссии, либо вели его сами, а также вершили суд (1898. С. 88–90, 92, 93, 145 и др.). Среди прочих занятий ка- бинет-министров в 1731 г. можно заметить еще очень неотчетливую законосовещательную функцию, связанную с их участием в подготовке законопроектов [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 5878. С. 556; № 5881. С. 557–559; № 5883. С. 561–563 и др.].
Кабинет Е. И. В. изначально не мыслился как орган, предназначенный заменять императрицу в делах управления, т. е. в первые годы существования он совершенно был не похож на то, чем станет позднее. Судя по журналам Кабинета министров, все получаемые им доклады, рапорты, доношения, мнения и челобитные поступали на имя государыни, а затем передавались от нее новому высшему органу (1898. С. 2, 13, 33, 143, 172 и др.). Кабинет-министры, рассмотрев дела, сделав соответствующие справки, сводки и выводы из этих доношений, составляли доклады и проекты резолюций для императрицы (1898. С. 142, 148, 154, 158, 234 и др.). Сам характер дел Кабинета на начальном этапе деятельности показывает, что основная роль в повседневном управлении страной принадлежала Сенату. Тогда как Кабинет, по справедливому мнению А. Н. Филиппова, осуществлял лишь «контроль и общее руководительство» [1906. С. I].
Одновременно в непосредственном ведении Кабинета оказались также несколько второстепенных органов и задач. В феврале 1732 г. в связи с начавшейся эпизоотией Кабинету была подчинена Медицинская канцелярия, в июле 1732 г. «министры» взяли на себя функцию смотра недорослей и отставных офицеров [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 6127. С. 887]; (1898. С. 337). Впрочем, в реальности все это для малочисленного Кабинета было трудновыполнимым [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 5958. С. 630]; (1898. С. 164).
Примерно в 1732–1733 гг. из органа надзорного и монаршей канцелярии Кабинет начинает превращаться в институт, через который выражалась воля государыни и сообщались ей донесения от других структур. Так секретариат императрицы постепенно становится посредником между самодержицей и остальным аппаратом управления (1898. С. 229, 275, 230, 330, 336; 1899. С. 1, 2, 6, 10, 20; 1900. С. 282, 292–293, 295, 322– 324). Впрочем, объявление Анной Иоанновной своей воли далеко не всегда было резуль- татом доклада кабинет-министров, так как сведения о государственных делах она получала и из других источников (1898. С. 344, 354). Воля самодержицы транслировалась не только через Кабинет, который не мог закрыть доступ к ней других лиц, особенно Э. И. Бирона. Были случаи, когда утвержденные императрицей доклады представлялись в Кабинет только для записи. В 1732 г. распоряжения Анны Иоанновны объявляли Б. Х. Миних, Я. П. Шаховской, А. Маслов, барон Строганов и др. (1898. С. 225, 293, 224, 305, 317).
Тем не менее в подавляющем большинстве случаев законодательные акты и административные постановления уже в 1732 г. проходили через Кабинет. Общей формой для них являлись именные указы, резолюции и высочайше утвержденные доклады. Указов самих министров и их резолюций на докладах, челобитных и т. п. в этом году еще не было. Но в некоторых кабинетских журналах упомянуты устные именные указы, объявленные «за подписанием руки» кабинет-министров (1898. С. 334, 350–353), или документы, по поручению императрицы утвержденные «господами министрами» (1898. С. 317, 321).
Первые два месяца после официального учреждения Кабинета императрица очень часто посещала заседания: из 52 заседаний ее присутствие отмечено на 31 (1898. С. 3, 5, 9, 13, 17, 20, 24 и др.). А с 19 по 23 декабря 1732 г., когда в Кабинете производилось следствие по делу князей Долгоруковых, Анна Иоанновна «быть изволила [на его заседаниях] по вся дни» [Там же. С. 88–89]. Затем ее правительственная активность резко снижается. В 1732 г. императрица посетила апартаменты Кабинета только дважды (2 января и 2 июня). Важно подчеркнуть, что в 1731–1732 гг. все императорские указы, исходившие из Кабинета, подписывались самой императрицей без указаний на то, что они состоялись в этом высшем органе (1898. С. 6, 78, 107, 111, 291). В 1733 г. Анна Иоанновна побывала в присутствии Кабинета четыре раза (1899. С. 243, 321, 336, 457), далее ее посещения прекращаются.
После создания Кабинета первое время (в 1731–1733 гг.) в официальных отношениях Сената и императрицы ничего не из- менилось. Сенат по-прежнему обращался к вышестоящей инстанции следующими формулами: «Е. И. В., Самодержице Всероссийской, всеподданнейшее доношение из Сената». Все резолюции на доклады Сената первое время также ставились самой императрицей. Сохранились довольно многочисленные высочайше утвержденные доклады Сената, тогда как резолюций кабинет-мини-стров на всеподданнейших докладах пока не было [Филиппов, 1911. С. 511]. Вообще только из делопроизводства Кабинета министров становится ясно, что в действительности «доношения» и «репорты» Сената и других центральных структур в значительной мере проходили через новый высший орган. Вскоре после учреждения Кабинета Сенат лишился права личного доклада императрице, в том числе прекращает практиковаться порядок, установленный указом от 1 июня 1730 г., о еженедельном докладе сенаторов императрице о решенных делах и о тех, которые требовали ее собственного разрешения.
Уже с 1732 г. в Сенат и другие инстанции стали поступать именем императрицы «приказы» и «письма» Кабинета [Филиппов, 1898. С. XLI]; (1898. С. 142, 150, 167, 299), члены которого начинали понимать свое значение. Первоначальным основанием для этого были особые, как правило, устные повеления государыни. С 1733 г. самостоятельность аннинского секретариата стала заметно увеличиваться. В частности, резко расширяется поле деятельности кабинет-министров. Так, 30 апреля 1733 г. Кабинет предписал Сенату самостоятельно назначать новых воевод, но обязательно представлять их кабинет-мини-страм [ПСЗ-I, 1830. Т. 9. № 6384. С. 101]; также «министры» требовали представлять им всех вновь назначенных секретарей (1899. С. 196). Впрочем, девять месяцев спустя право определять воевод и секретарей было возвращено Сенату [ПСЗ-I, 1830. Т. 9. № 6538. С. 259–260]. Кабинет-министры поняли, что переоценили собственные возможности.
Далее по мере того, как Кабинет все более сосредотачивал у себя руководство внутренней политикой, ему были подчинены также полицейские органы: в январе 1734 г. – Главная полицмейстерская канцелярия [Там же. № 6529. С. 252], а в июне 1735 г. – Канцелярия тайных розыскных дел [Там же. № 6753.
С. 534]. В том же 1733 г. в административной практике появляются «предложения Сенату» и высочайшие рескрипты за подписью двух кабинет-министров (А. И. Остермана и А. М. Черкасского) (1899. С. 7, 54, 67, 221, 444–446, и др.), что отражает дальнейший рост значения Кабинета. В 1734 г. уже имели место довольно многочисленные именные указы, начинавшиеся словами «Божию милостию Мы, Анна, Императрица и Самодержица Всероссийская…», но подписанные членами ее «секретариата» (1900. С. 34, 44, 52, 75, 102, 119–120, 123 и др.). В этих отдельных фактах можно видеть признаки того, как постепенно происходил переход к новому порядку, который был определен указом от 9 июня 1735 г.
Именной указ, изданный в этот день, приравнял подписи трех кабинет-министров к подписи государыни. Фактически члены Кабинета и ранее утверждали указы за императрицу, но теперь они получили для этого формальное основание. Характерно, что столь важное постановление Анны Иоанновны было прикрыто, согласно букве закона, намерением прекратить практику словесных именных указов [ПСЗ-I, 1830. Т. 9. № 6745. С. 529].
С этого момента, как справедливо отмечал А. Н. Филиппов, Кабинет стал занимать совершенно особое положение в государственной системе и по своим полномочиям уравнивался с Верховным тайным советом. Реализация июньского закона привела к тому, что указы и резолюции «министров», считавшиеся равными именным распоряжениям Анны Иоанновны, нередко подписывали лишь двое министров (1901. С. 154, 160, 175, 179; 1902. С. 7, 138, 139, 146; 1905. С. 5, 7, 14, 19, 20 и др.), а в некоторых случаях – только один (1901. С. 30; 1906. С. 133–134).
Хотя 31 июля 1735 г. был издан рескрипт «министрам», чтобы они «не утруждали Ея Величество малыми делами» (1901. С. 291), и на утверждение императрицы стали представляться лишь те дела, которые они сами признавали важными, Самодержица после указа от 9 июня 1735 г. не собиралась полностью отказываться от правительственной деятельности. Она отправляла кабинет-ми-нистрам свои рескрипты (1901. С. 251, 253, 255, 256, 272; 1902. С. 326, 327, 342, 361).
Продолжали издаваться и ее собственные именные указы и резолюции, хотя теперь это случалось значительно реже. Так, например, их количество в 1735 г. было уже вдвое меньшим (1901. С. 2, 27, 30–32, 35, 36, 39 и др.), чем в 1733 г. (1899. С. 3, 4, 6, 12, 16, 18 и др.). Одновременно увеличивалось количество указов и резолюций Кабинета министров (1901. С. 154, 160, 175, 179, 182, 186 и др.; 1902. С. 3, 4, 14, 25, 32 и др.), на который все более перекладывались управленческие функции самой государыни. Высочайше утвержденные доклады Сената хотя и имели место, но теперь явно преобладающими стали резолюции на них членов высшего органа. Со временем число «министерских» указов и резолюций все более увеличивалось, а количество именных указов, не прошедших через Кабинет, сокращалось. Но Кабинет в монархическом государстве не был всесилен. И хотя зачастую именно кабинет-министры (1901. С. 59; 1902. С. 22, 32, 33, 37, 47 и др.) выражали волю Анны Иоанновны, но они не могли изолировать ее от других лиц и структур. Например, в 1735 г. высочайшие повеления объявляли А. П. Волынский, В. Ф. Салтыков, А. И. Ушаков (1901. С. 58, 59, 68, 69, 75 и др.). Более того, в случае необходимости заинтересованное лицо или учреждение подавали всеподданнейшее доношение на имя самодержавной императрицы. Этим правом пользовался, например, обер-прокурор Сената А. Маслов [Петрухинцев, 2001. С. 98].
Таким образом, на практике Кабинет очень скоро становится средоточием всех дел верховного управления, его «приказы» стали получать практически все органы власти. Изначальная неопределенность компетенции Кабинета, его высокое положение в иерархии управления, недоверие императрицы к сенаторам и скорое ее охлаждение к государственным делам, наличие серьезных финансовых затруднений предопределили распространение власти Кабинета на разные области управления, вмешательство во все вопросы, подчинение ему различных органов, посылку указов в коллегии и на места, минуя Сенат, и присылку в ответ рапортов и докладов непосредственно в Кабинет.
Для данного высшего органа было характерно «стремление объять все необъятное» [Бондаренко, 1913. С. 8]. С апреля 1737 г.
«министры» изучали рапорты о ценах на хлеб, которые присылались в Кабинет из каждого российского города [ПСЗ-I, 1830. Т. 10. № 7238. С. 133]. Реализация подобных мероприятий требовала больших затрат времени и, несомненно, сковывала правительственную активность Кабинета. Текущими малозначительными вопросами Кабинет засыпали Сенат и центральные структуры. Оказавшись не в силах разрабатывать их самостоятельно, высший орган начинает требовать от докладчиков представления «мнений». В 1737 г. было издано особое распоряжение: «Впредь бы доношения подаваны были со мнением, а не без мнениев» (1904. С. 156).
Среди «кабинетских» указов и резолюций, готовившихся в высшем органе по внутриполитическим вопросам, можно выделить три основные группы: 1) законы (их немного); 2) административные постановления (большинство актов); 3) высшие судебные решения (составляли среднюю по весу группу). В 1736–1738 гг. Кабинет значительно чаще, чем раньше, стал заниматься внешнеполитическими вопросами. И это не случайно: в разгаре была русско-турецкая война 1735–1739 гг., и кабинет-министры уделяли решению связанных с ней проблем большую часть своего времени. Руководство военной кампанией начиная с 1737 г. обусловило дальнейшее расширение сферы компетенции Кабинета.
Военные потребности обострили финансовый вопрос: «министры» тщательно заботятся об экономии государственных средств, активно изыскивают новые источники дохода. В сентябре 1736 г. они были вынуждены применить уже экстренное средство экономии: статским чиновникам половину жалованья стали выплачивать сибирскими товарами вместо денег (1902. С. 445). Тяжелое финансовое положение заставило членов высшего органа обложить «инородцев» двойным окладом (7 мая 1737 г.) (1904. С. 274); [Опись высочайшим указам..., 1875. № 5999. С. 471]. Одновременно они контролируют ход составления государственной окладной книги, всеми способами стремятся ускорить сбор недоимок по различным сборам (1904. С. 367, 392, 555). Кроме того, Кабинет министров постоянно занимался разрешением неурядиц в монетном деле (1904. С. 374–377), пытался добиться, чтобы казенные товары продавались максимально выгодно (1904. С. 182, 242, 487). При рассмотрении финансовых вопросов Кабинет нередко принимал на себя счетные и аудиторские функции (1904. С. 53, 309).
Кабинет-министры занимались также регулированием потоков финансовой отчетности. Второго апреля 1737 г. Кабинет предписывает «о расходах монетной канцелярии… разсмотреть и порядочное определение учинить Правительствующему Сенату» (1904. С. 196). В другой раз, 5 ноября 1737 г. Кабинет своей резолюцией «наикрепчайше под жестоким взысканием» предписывает Коммерц-коллегии и Генерал-берг-дирек-ториуму «немедленно» разобраться с долгами Коммерц-коллегии по векселям перед Штатс-конторой (1904. С. 661–664). Важным изменением в деятельности Кабинета после указа от 9 июня 1735 г. становится его участие в регулировании конфликтов между Сенатом и подчиненными ему управленческими структурами (1902. С. 131). В то же время после 9 июня 1735 г. Кабинет министров стал чаще, чем ранее, требовать присылать экстракты из интересующих его дел (1902. С. 208; 1904. С. 639).
Кроме того, кабинет-министры добивались повышения оперативности в функционировании органов управления. Двенадцатого апреля 1737 г. они призвали Сенат как можно быстрее закончить «счета и следствия», проводимые Комиссией о подлогах в отношении городовой канцелярии, и приказали по причине слишком долгого рассмотрения данного дела «содержать без выпуска под караулом» не только канцеляристов, но и членов Камер-коллегии и Полицмейстерской канцелярии (1904. С. 214–215). Среди приказаний Сенату этого времени необходимо отметить нередкие предписания «министров» вызвать в Сенат членов одного из центральных органов для объявления выговора (1904. С. 513, 545).
Кабинет-министры стремились упорядочить делопроизводство и отчетность учреждений. Например, 25 мая 1737 г. Сенат в своем докладе просил Кабинет разрешить коллегиям и канцеляриям составлять «денежные счета» и по новым, и по старым формам. Члены высшего органа ответили Сенату вполне логичным предписанием: «Надлежит о сем пространное разсуждение иметь и единожды о всех счетах надежное определение учинить, дабы то счетное дело по одному, а не по нескольким указам управляемо быть могло» (1904. С. 321).
Следующей вехой в усилении правительственного значения Кабинета министров может считаться 1738 г. Одиннадцатого июля 1738 г. «министр» А. П. Волынский объявил в Кабинете устный указ императрицы о том, что «Е. И. В. изволит шествовать в Петергоф для своего увеселения и покоя. Того ради, чтобы Е. И. В. о делах докладами не утруждать, а все дела им самим решать, Кабинет-Мини-страм, как по особливому Е. И. В. указу, дана им полная мочь; и указов за подписанием рук их, велено слушать властно так, как за собственною Е. И. В. Высочайшею рукою. А которыя дела самыя важнейшия, такие, которых они сами, “министры”, решить не могут, то только о таких Е. И. В. доносить в Петергоф» (1906. С. 53–54). Этим словесным указом Анна Иоанновна, сохранив абсолютную власть, перепоручала основную часть своих самодержавных обязанностей высшему органу. При этом компетенция самого Кабинета оставалась неопределенной, а «министры», как и раньше, должны были докладывать «самые важнейшия дела» императрице. Анна Иоанновна и после этого устного указа продолжала участвовать в высшем управлении. Сложнейшие дела поступали из Кабинета на ее рассмотрение и утверждение, она разбирала отдельные челобитные и т. д. Даже в 1740 г. императрица по докладам «министров» отменяла незаконные распоряжения правительственных структур или налагала на них взыскания (1915. С. 13, 383–384).
В конце аннинского царствования сфера ведения высшего органа империи, который, как и самодержавный монарх, мог заниматься абсолютно любыми делами, по-прежнему оставалась чрезвычайно разнородной. В 1738 г. Кабинету министров приходилось решать вопросы, связанные с борьбой против эпидемий (в том числе против «горячей лихорадки с пятнами») (1906. С. 8–14, 101, 231). Продолжая с большим вниманием относиться к финансовой отчетности государственных органов, 3 марта 1740 г. Кабинет министров сообщает Сенату, что членам высшего органа «потребно всегда… ведать» о находящейся в распоряжении центральных органов Петербурга и Москвы «денежной казне». Поэтому Сенату предписано: «Изо всех мест такия ведомости собирать, и сочиняя из оных краткия подавать в Кабинет Е. И. В., чрез каждыя две недели, расписывая порознь по местам и по сборам, и куда ко-торыя деньги на расходы отпускать положены, и которых без Именных Е. И. В. и кабинетских указов в расход держать не велено» [ПСЗ-I, 1830. Т. 11. № 8027. С. 38].
Усиленное внимание «министров» к финансовой проблематике объяснялось постоянным недостатком денежных средств, в некоторых случаях даже на самые необходимые военные расходы. Так, в январе 1739 г. вследствие того, что на содержание 12 полков персидского корпуса с 1736 по 1739 г. «было недослано» 375 831 руб., Кабинет жестко предписывает деньги отправить, а «ежели и за сим Нашим указом вышеупомянутой суммы вскоре отпущено не будет, то, за неисполнение, Штатс-конторы судьи наижесточайшее истязаны быть имеют» (1907. С. 96). Угрозы, однако, помогали мало, поскольку недоимки собрались медленно, а бюджетный дефицит увеличивался.
Участие Кабинета в рассмотрении судебных дел в 1739 г., к примеру, как и ранее, выражалось либо в непосредственном руководстве ходом следствия и осуществлением судопроизводства, либо ограничивалось формированием специальных комиссий (1909. С. 217). Характер участия Кабинета в конкретном деле зависел, прежде всего, от того внимания, которое уделяла ему Анна Иоанновна, от социального положения обвиняемого, а также от специфики или сложности преступления. Собрание «министров» выступало как суд первой и высшей инстанции. Кабинету принадлежало право именем императрицы смягчать и пересматривать наказания или даже вовсе освобождать от них (1909. С. 14, 92, 134, 143, 146 и др.). Причем, как и в административных делах, внимание высших сановников в судебной области привлекали и действительно важные, и самые заурядные вопросы (1907. С. 278). В 1740 г. ка-бинет-министры решали судьбу имущества, оставшегося после смерти князя Д. М. Голи- цына, а затем – имущества А. П. Волынского и его «конфидентов» (1915. С. 217, 340, 419–420).
Рост правительственного веса Кабинета министров не освобождал его от исполнения личных поручений императрицы. В последние годы царствования она, как и ранее, обращалась в Кабинет по вопросам как общегосударственного значения, так и связанным с ее «личным хозяйством». При этом распоряжения императрицы «господам ка-бинет-министрам» нередко передавались в форме записок, написанных ее секретарем и подписанных Анной Иоанновной. Среди этих обращений встречаются: пожалование деревень (15 июня 1737 г.); пересылка челобитных, поступивших прямо императрице; предписание решить вопрос с лесными пожарами на Выборгской стороне (12 июля 1738 г.); 27 июля 1738 г. – ряд более важных повелений по производству сукна для армии, «заготовлению денег» для закупки провианта и выплаты жалования военным, рекрутским наборам и «поимке» дезертиров [Строев, 1910. С. 55–56].
Среди исключительно личных повелений императрицы своим «министрам» отметим, например, следующие. Так, 8 октября 1738 г. кабинет-министры подписали указ на имя князя Трубецкого о проведении в присутствии судей «пробы» тем людям, которых некая Агафья Дмитриева обучила «волшебному искусству». Искусство ее заключалось в том, что «она чрез волшебство оборачивалась козою и собакою и некоторых людей злым духом морила» (1906. С. 316). В 1739 г. члены высшего органа получали также следующие высочайшие повеления: «Присланную из Воронежской губернии… бабу, которая имеет усы и бороду мужескую, отправить обратно»; прислать из Малороссии для маскарада «казаков и молодых баб и девок, танцовать умеющих, выбрав по шести человек, только чтоб собою негнусны были» (1909. С. 11, 422, 558). Исполнение подобных поручений, видимо, было связано с тем, что Кабинет министров развился до значения высшего государственного органа из института личной канцелярии императрицы. К тому же любые повеления самодержицы в имперской правовой системе считались обязательными, край- не важными и равновеликими, независимо от существа дела.
Вообще деятельность Кабинета министров в основном была направлена на решение тех вопросов, которые ставили перед ним подчиненные ему органы или же сама императрица. Самостоятельных докладов «министров», утвержденных императрицей, сохранилось незначительное количество (в бумагах Сената их всего шесть: три – от 1735 г. [ПС-I. 1830. Т. 9. № 6770, 6847, 6849], два – от 1737 г. [Там же. Т. 10. № 7339, 7417], один – от 1739 г. [Там же. Т. 10. № 7756]). Следовательно, аннинский Кабинет Е. И. В. как высший орган власти преимущественно занимался координацией, контролем, решением текущих вопросов. В его деятельности практически не заметно стремления к разработке новых крупных проектов или существенных преобразований, незначительными являются следы его законотворческой работы и моменты законодательной инициативы в принципе.
В период годичного регентства правительницы Анны Леопольдовны (9 ноября 1740 г. – 25 ноября 1741 г.) Кабинет пережил несколько реорганизаций: в его структуре возникла должность «первого министра», подведомственные Кабинету дела были разделены на три департамента и т. п. Однако эти перемены касались организации высшего органа, но не его компетенции и полномочий, первая оставалась крайне неоднородной, а вторые – весьма обширными. В этом смысле Кабинет министров был тем же учреждением, каким он являлся в последние годы царствования почившей императрицы. Данный высший орган продолжал контролировать и регулировать основные направления внутренней и внешней политики Российской империи. В частности, в его компетенции находились: управление финансами, назначение руководящих лиц и награды за службу, вопросы денежной отчетности; вопросы развития промышленности и торговли, придворные заботы, контроль деятельности го-сорганов, назначение церковных иерархов, вопросы обеспечения армии и флота, апелляции судебных приговоров и других решений центральных органов; дела по политическим и особо резонансным уголовным преступле- ниям, помилование приговоренных и мн. др. [Высшие государственные..., 1886].
Итак, имеющаяся в нашем распоряжении литературно-источниковая база позволяет прийти к следующим выводам. Кабинет министров не сразу стал высшим государственным органом, подобным по своим полномочиям Верховному тайному совету. Кабинет создавался как личная канцелярия монархини и был предназначен для документальной обработки участия правительницы в управлении, а также для руководства дворцовым хозяйством. Далее начинают действовать следующие факторы: серьезные финансовые трудности, прояснение незначительной роли императрицы как правителя, невозможность для Анны Иоанновны оставить высшее управление на Сенат, наполненный ее вчерашними утеснителями и всегда загруженный массой текущих ординарных дел. В итоге Анне Иоанновне, как ранее и Екатерине I, потребовался орган, который мог бы исполнять ее правительственные функции без ущерба для самодержавия. Таким высшим органом и становится Кабинет Е. И. В., через который абстракция абсолютной власти монарха приобретала более четкие формы, конкретизировалась в практике управленческой деятельности. Его полномочия будут расширяться по мере все большего снижения правительственной активности императрицы, а также обращения кабинет-министров к проблеме решения финансового дефицита и сбора недоимок, к руководству военной кампанией 1735–1739 гг. и другим важнейшим вопросам, что естественно требовало наличия мощнейших полномочий. В целом компетенция и полномочия Кабинета министров развивались как бы по спирали, последовательно разрастаясь:
-
1) с 1730 г. – Кабинет – секретариат императрицы (эти функции он сохранит и в дальнейшем);
-
2) с 1731 г. – Кабинет становится также органом надзора и ревизии;
-
3) с 1732 г. – Кабинет получает также отдельные административные функции (Кабинет – посредник между императрицей и госучреждениями, имеет свои второстепенные задачи, рассылает «приказы» и «письма» другим органам);
-
4) 1733–1735 гг. – переходный период: Кабинет вступает в стадию формирования как высший орган власти (в отдельный случаях начинает заменять императрицу, получает контроль над силовыми ведомствами);
-
5) с 1735–1736 гг. – Кабинет – высший орган, регулярно заменявший императрицу в управлении;
-
6) с 1736–1738 гг. – Кабинет получает также функции органа военного управления;
-
7) 1738–1741 гг. – Кабинет полностью нашел свою нишу в высшем управлении империи: дополнительно закрепленные функции заместителя правителя, максимально широкая компетенция, плюс обязанности личного секретариата и дворцового управляющего правителя.
Список литературы Полномочия и компетенция Кабинета министров в 1730-1741 годах: стадии роста
- Бондаренко В. Н. Очерки финансовой политики Кабинета министров Анны Иоанновны. М.: Печ. А. Снегиревой, 1913. 430 с.
- Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. (Опыт целостного анализа). М.: РГГУ, 1999. 575 с.
- Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России, 1725-1762. Рязань: П. А. Трибунский, 2003. 565 с.
- Петрухинцев Н. Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота 1730-1735 гг. СПб.: Алетейя, 2001. 349 с.
- Савельева Е. Н. Кабинет министров императрицы Анны Иоанновны: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2004. 16 с.
- Строев В. Н. Бироновщина и Кабинет министров. М.: Тип. имп. Моск. ун-та, 1909. Ч. 1. 212 с.; СПб.: Тип. имп. Акад. наук, 1910. Ч. 2. 89 с.
- Строев В. Н., Варыпаев П. И. Судьба Кабинета после кончины Петра Великого до воцарения императрицы Елисаветы//200-летие Кабинета Его Императорского Величества. 1704-1904. СПб., 1911. С. 313-356.
- Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма во второй половине XVII и XVIII вв.//Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.). М., 1964. С. 260-313.
- Филиппов А. Н. Кабинет министров и Правительствующий Сенат в их взаимных отношениях//Сборник правоведения и общественных знаний. М., 1897. Т. 7. С. 1-61.
- Филиппов А. Н. Правительствующий Сенат в царствование Анны Иоанновны и Иоанна Антоновича//История Сената за 200 лет, 1711-1911. СПб., 1911. Т. 1. С. 479-640.
- Филиппов А. Н. Предисловие к «Бумагам Кабинета министров»//Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны. Юрьев, 1898. Т. 1. С. I-XCII; 1906. Т. 8. С. I-XXXIV.
- Список источников Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1898. Т. 1. 580 с.; 1899. Т. 2. 655 с.; 1900. Т. 3. 512 с.; 1901. Т. 4. 588 с.; 1902. Т. 5. 683 с.; 1904. Т. 6. 787 с.; 1905. Т. 7. 537 с.; 1906. Т. 8. 544 с.; 1907. Т. 9. 615 с.; 1909. Т. 10. 717 с.; 1915. Т. 12. 568 с.
- Высшие государственные учреждения//Внутренний быт Русского государства с 17 октября 1740 г. по 25 ноября 1741 г. по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1886. Кн. 2. С. 1-136.
- Доклад императрице Елизавете Петровне о восстановлении власти Правительствующего Сената//Журнал Министерства народного просвещения. 1897. № 2. С. 275-291.
- Лефорт Ф. Донесения (1728-1733). Сообщено из дел Саксонского гос. архива в Дрездене//Сборник императорского русского исторического общества. СПб., 1870. Т. 5. С. 295-474.
- Манштейн Х. Записки о России//Перевороты и войны. М., 1997. С. 5-279.
- Маньян. Донесения французского поверенного в делах при русском дворе Маньяна (годы с 1727 по 1730), и предписания французского министерства за 1727-1739 гг.//Сборник императорского русского исторического общества. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. Т. 75. 544 с.
- Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в Санкт-Петербургском сенатском архиве за XVIII век. СПб.: Тип. Правит. Сената, 1875. Т. 2. 1030 с.
- Осмнадцатый век: Исторический сборник. М.: Тип. Т. Рисе, Д. Воейкова, 1869. Кн. 3. 494 с.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. СПб.: Тип. II Отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. Т. 8. 1020 с.; Т. 9. 1028 с.; Т. 10. 1000 с.; Т. 11. 992 с.
- Рондо К. Донесения… (1728-1733). Сообщено из англ. гос. архива Министерства иностранных дел//Сборник императорского русского исторического общества. СПб.: Тип. имп. Акад. наук, 1889. Т. 66. 617 с.
- Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. М.; Аугсбург: Werden Verlag, 2001. 42 с.