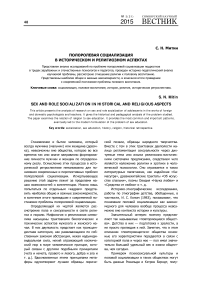Полоролевая социализация в историческом и религиозном аспектах
Автор: Митин Сергей Николаевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Психология и педагогика
Статья в выпуске: 3 (21), 2015 года.
Бесплатный доступ
Представлен анализ исследований по проблеме полоролевой социализации подростков в трудах зарубежных и отечественных психологов и педагогов, проведен историко-педагогический анализ изучаемой проблемы, рассмотрено отношение религии к половому воспитанию. Представлены наиболее общие и важные закономерности, в конечном итоге приведшие к современной постановке проблемы полового воспитания.
Социализация, половое воспитание, история, религия, историческая ретроспектива
Короткий адрес: https://sciup.org/14114138
IDR: 14114138
Текст научной статьи Полоролевая социализация в историческом и религиозном аспектах
Становление и бытие человека, который всегда мужчина (мальчик) или женщина (девочка), невозможны вне общества, которое во все времена так или иначе направляло формирование личности мужчин и женщин по определенному руслу. Осмысление этих процессов в исторической ретроспективе немаловажно для понимания современных и перспективных проблем полоролевой социализации. Исчерпывающее решение этой задачи лежит за пределами наших возможностей и компетенции. Можно лишь попытаться по отдельным «кадрам» представить наиболее общие и важные закономерности, в конечном итоге приведшие к современной постановке проблемы полоролевой социализации.
Определяющей их чертой является рассмотрение пола и сексуальности в свете религии и морали. Мифология и религиозная символика насыщены трактовками биологических и психических аспектов мужского и женского начал. В них двуполость предстает как трансцендентная категория, как развивающаяся по собственным законам абстракция, некая надъинди-видуальная сила, некий отражающий космический мир в мире человеческом принцип, который связан с другими подобными принципами (чета и нечета, правого и левого, добра и зла и т. д.). Вдохновленные этими принципами метафоры одухотворяют лучшие образцы лириче- ской поэзии, образцы народного творчества. Вместе с тем в этих трактовках двуполости налицо регламентация сексуальности через диктуемые теми или иными религиозно-мистическими системами предписания, следствием чего является наложение религии и эротики в человеческой психологии. Оно отражается в таких литературных памятниках, как индийская «Ка-масутра», древнекитайские трактаты «Об искусстве спальни», поэмы Овидия «Наука любви» и «Средства от любви» и т. д.
Историко-этнографические исследования, работы по этнографии детства, обобщенные, в частности, И. С. Коном (1983), показывают, что понимание половой социализации как закономерного для человека вообще процесса невозможно вне контекста истории и культуры.
Значительный интерес поэтому представляют так называемые «повторяющиеся общества». Детство в них — подготовка к зрелости, а не просто прелюдия к ней. Заметим, что в этом описании «повторяющегося» общества основные его характеристики передаются в связи с категорией пола и через нее — пол имел значительно больший удельный вес в жизни общества, чем сегодня.
Примером психосексуальной культуры и половой социализации в таких обществах могут быть данные Рональда и Кэтрин Берндт, полу- ченные в 1940—1950-х гг. при изучении жизни австралийских аборигенов. Подготовка к взрослой жизни и браку начинается с самого детства: дети узнают мир, людей, правила поведения и т. д., непосредственно участвуя в жизни общины. Такое обучение, по словам авторов, — не столько подготовка к будущей жизни, сколько часть жизни настоящей: «Это активный практический процесс. Никто не читает ребенку нравоучений; он наблюдает за другими людьми и подражает им, а они направляют его поведение в нужное русло в ходе личных взаимоотношений». От детей ничего, кроме отдельных обрядов, некоторых песен и мифов, стоянок женщин во время менструаций и родов, специально не скрывается. Сексуальные темы обсуждаются при детях совершенно свободно, нередко они могут оказаться свидетелями полового акта. Подрастая, дети начинают имитировать половую жизнь взрослых, у них появляются свои любимые «непристойные» слова. Игры в «мужей и жен» вполне обычны. В них воспроизводятся не только жизнь и быт семьи, но и многие типичные для взрослых ситуации, когда, например, один мальчик убегает с «женой» другого. Взрослые весьма снисходительны к тому, что в таких играх дети не всегда выбирают в «мужья» и «жены» тех, кто действительно предназначен им по обычаям. Нередок обычай периодических ночевок девочки в лагере будущего мужа для того, чтобы она привыкла к нему и его окружению. Более или менее формализованное половое обучение молодежи осуществляется только в обрядах инициации, имеющей свои сложные и длительные ритуалы подготовки и посвящения в разряд взрослых мужчин и женщин. Связанное с инициацией эмоциональное потрясение, особенно у мальчиков, видимо, способствует особо глубокому и прочному запечатлению преподносимых общиной стереотипов [1].
Конкретный рисунок половой культуры и социализации неодинаков в разных «повторяющихся обществах». Так, в некоторых индейских племенах долго сохранялся обычай, по которому юноша перед инициацией сам мог выбирать себе социальную и сексуальную роль и предпочесть по своему усмотрению инициацию в мужчину либо в женщину; у индейцев пилага ребенок считался существом с избыточной, цветущей сексуальностью, проявлениям которой взрослые не препятствуют и которая является едва ли не основным способом общения между сверстниками [2]. В традиционной японской культуре сон женщины с раскинутыми ногами считался неприличным, и для обучения «при- личному» сну девочкам на ночь связывали ноги; о социальном статусе женщины и ее психологическом портрете в японских традициях красноречивее всего, может быть, говорит ирония даже современных японцев, расстающихся с традиционными стереотипами, по поводу того, что у европейцев принят «культ женщины» и Запад, якобы, управляется «слабым полом», тогда как жизнью японцев руководят три вида повиновений: дочери — родителям, жены — мужу и вдовы — старшему сыну [1].
Во многом иной психологический портрет женщины рисуют традиции монгольской культуры: «Суровые условия жизни, частые военные походы, когда кочевье оставалось без мужчин, ставили женщин перед необходимостью принимать решения, вырабатывали активные и самостоятельные характеры. Во многих источниках есть сведения о женщинах, организовывавших оборону кочевья от врагов, вступавших в бой, мстивших за смерть мужа и т. д. Женщины участвовали наравне с мужчинами в празднествах, пирах, к их советам прислушивались при обсуждении вопросов, связанных с судьбами государства» [3]. В монгольском эпосе часто встречаем образ женщины-богатырши; монгольских девочек учили не только «женским» делам, но и стрельбе из лука, управлению повозкой и др.
Существуют данные о так называемом половом воспитании у диких племен острова Во-гео, расположенного недалеко от побережья Новой Гвинеи. Сексуальная подготовка является основной частью обряда посвящения юноши в мужчину. Перед ритуалом посвящения все молодые люди живут, как правило, в одном особом доме. Туда обычно приглашалась женщина, которую называли «Иовханан», чтобы научить молодых людей тайнам секса. Вначале ее инструкции не предусматривали возможности половых сношений с учениками, так как курс был, по сути дела, только теоретическим. Чтобы преуспеть, женщина-инструктор прибегала к всевозможным ухищрениям, и в результате все же могла передать своим ученикам необходимые знания о сексуальных отношениях. Такой тренаж, посвящение в тайны любви и секса считались весьма важной материей, и ни одному молодому человеку не разрешалось вступать в брак, если он не прошел всего теоретического курса. Когда теория считалась вполне усвоенной, мальчики подвергались обрезанию. Вскоре они подходили к завершающей стадии обряда. На сей раз каждому из них предстояло совершить половой акт со своим инструктором-женщиной, после чего мальчик считался взрос- лым мужчиной и мог жениться. Женщина-инструктор пользовалась большим уважением у членов племени. Ей никогда не платили за оказываемые услуги. В ее профессии никто не находил ничего зазорного, она не вызывала никаких упреков, и если ей приходило в голову выйти замуж, она это беспрепятственно делала, став респектабельной супругой [3].
Проблемы древнейших форм семейных отношений и полового воспитания (первобытнообщинный строй) служат предметом горячих дискуссий в литературе по истории первобытного общества и на современном уровне наших знаний не могут считаться окончательно решенными. Положение Ф. Энгельса об отсутствии в начале человеческой истории оформившейся семьи и о господстве тогда беспорядочных половых отношений выдержало испытание временем.
Можно предполагать, что на ранних этапах развития первобытного стада не было каких-либо брачных запретов, каких-либо позитивных социальных норм, регулирующих половые отношения. Допускалось брачное общение как между братьями и сестрами, так и между родителями и детьми. Но неупорядоченные брачные отношения не исключали существования временных и постоянных брачных пар, возникавших и распадавшихся в зависимости от желания как той, так и другой стороны. Никаких социальных норм, которые бы регулировали образование и распад подобных брачных пар, не было.
Такое состояние не сохранилось ни у одного из современных племен, но оно восстанавливается по слабым пережиткам, отмеченным у многих племен и народов.
Формы группового брака, сохранявшиеся до недавнего времени у некоторых племен, сопровождались своеобразными и сложными условиями, что с необходимостью указывает на предшествующий им период неупорядоченных половых отношений, соответствующий древнейшему этапу истории человечества.
Из такого первобытного состояния неупорядоченных половых отношений, вероятно, еще на ступени древнего палеолита стал постепенно возникать групповой брак.
По отчасти сохраняющимся отголоскам языческих верований и обычаев у славянских народов невозможно подробно восстановить картины половой социализации, но можно все же судить о месте и трактовках пола в общих представлениях о мире [1]. Не меньший интерес представляют и этнографические данные о традиционных культурах народностей, населяющих сегодня территорию нашей страны.
На отношение к полу и сексуальности в европейских культурах наибольшее влияние оказало христианство, содержащее в своих доктринах многообразные формы так называемого двойного стандарта, проявляющегося сексизмом и мужским шовинизмом. Обычно обращают внимание на антисексуальные установки христианства и репрессивные стереотипы определяемой им половой социализации, ядром которой являются запугивающие и отвергающие предписания. За этими чертами позднего христианства, однако, стоит его история, в которой были и иные моральные и сексуальные установки, проявившиеся в прошлом и настоящем отношении к сексуальности и представленные единой системой мифов и трактовок Ветхого Завета, рассматривающего половое и сексуальное как проявление в человеке священного начала, а потому исключавшего аскетическое и пуританское отношение к сексуальности и полу. Миф о сотворении человека — это миф о сотворении мужчины и женщины, заключаемый словами: «Это хорошо». «Песнь песней» и сегодня остается непревзойденным образцом эстетического восприятия и выражения сексуальности, одухотворенной и высокой поэтизации эротического. Безбрачие чуждо Ветхому Завету, рассматривающему семью как священное установление, по отношению к которому, правда, личные симпатии, привязанность и любовь в современном их значении выступали как второстепенные элементы [4].
Авторитет семьи в народе был необычайно высок. Человек, не желавший в зрелом возрасте заводить семью, вызывал у соседей подозрение. Только две причины считались уважительными — болезнь или желание уйти в монастырь. Русские пословицы и поговорки так оценивали значение семьи: «Не женат — не человек», «В семье и каша гуще», «Семье в куче не страшна и туча».
В далеком средневековье крестьяне жили большими патриархальными семьями из 15—20 человек: престарелые родители, женатые сыновья с детьми и внуками — три-четыре поколения родственников. В XVII веке преобладали семьи не более 10 человек, состоящие, как правило, из представителей двух поколений — родителей и детей. Главой семьи был старший мужчина в доме. В основе крестьянского супружеского союза лежал прежде всего хозяйственный интерес. Такое святое для многих людей чувство, как любовь, редко бралось в расчет. Помещик женил крепостных по своему усмотрению. Да и народная традиция не предусматри- вала обоюдного согласия юноши и девушки на брак — за них все решали родители. Супругов объединяла общая забота: о хозяйстве, о детях, о доме. Ну а что до любви — «стерпится — слюбится», — считали в старину. В былые времена женились очень рано. «Кормчая книга» — свод церковных правил, составленный в XVIII веке и регулировавший в том числе и семейные отношения, — устанавливала брачный возраст для девушек — 13, для юношей — 15 лет. Нередки были случаи и более ранних браков [5].
Крестьянское понятие чести включало в себя для мужчин отсутствие оснований для оскорблений и умение ответить на незаслуженные поношения; для девушек — чистоту; для женщин — верность.
Очень четко выступает из многочисленных и разнообразных источников решительное осуждение русским крестьянством добрачных связей. Если такое и случалось, то как исключение, и всегда и повсеместно встречало отрицательную оценку общественного мнения деревни. Родители весьма строго смотрели за тем, чтобы дело во взаимных отношениях молодежи не дошло до половой связи, так как это является позором не только для самой девушки, но и для родителей, воспитавших ее. Беременность девушки составляет уже для родителей крайнюю степень позора и бесчестия.
Средневековая женщина была полностью зависима от мужа. Его власть над женой утверждалась не только силой авторитета, но нередко и прямым насилием. Бить жену считалось в порядке вещей не только в крестьянской, но и в боярской среде. «Домострой» на этот счет высказывался положительно. В народной среде прочно бытовало представление: если муж не бьет жену, значит, он ее не любит. И все же положение женщины из простонародья было намного свободнее, чем в боярской или купеческой среде. Крестьянка, занимаясь хозяйством, могла свободно выйти из дома по воду к колодцу или на реку, пойти в лес по грибы и ягоды, на жатву в поле. Боярыни же и купчихи вели затворнический образ жизни.
Рождение детей в семье всегда радость. Детей рожали столько, сколько Бог пошлет. Искусственно прерывать беременность считалось большим грехом. Родители были для своих детей непререкаемым авторитетом. Даже взрослый сын беспрекословно подчинялся отцу. Авторитет родителей поддерживали и государство, и церковь. «Домострой» поучал: «Чада… любите отца своего и мать свою, и слушайте их, и повинуйтесь им по Богу во всем, и старость их чтите, и немощь их…» [6]. Родительское проклятье с точки зрения веры и народных представлений о нравственности считалось самым страшным, какое только могло быть. Вместе с тем «Домострой» требовал от родителей заботиться о своих детях, велел учить их «страху Божьему и вежливости и всякому благочинию и, по времени… учить рукоделию матери — дочь, а отцу — сына» [6].
Реальная жизнь со всеми ее радостями порицалась как дьявольское наваждение, ей противопоставлялись «подвиги» монахов, заключавшиеся в посте, молитвах, различного рода самоистязаниях (жизнь замурованными в пещерах) и т. п. Идея «греховности» жизни, необходимости «искупления» грехов и «наказания» божьего — все это нашло продолжение в религиозно-поучительной, «житийной» литературе русского средневековья.
Следы этих концепций можно обнаружить и в Новом Завете. Но в нем уже складывается впоследствии определяющая для христианства концепция десакрализации сексуальности — лишение ее священного смысла и признание лишь в качестве уступки природе человека: существование сексуальности оправдано лишь постольку, поскольку она служит продолжению рода и лишь при условии легализации в церковном браке союза мужчины и женщины, создаваемого исключительно ради прокреации. В ходе ветвления христианства, образования разных его направлений эта концепция, истоки которой относят ко II веку н. э. и связывают с апостолом Павлом, встречала различное отношение. В средние века она поддерживалась и развивалась Августином и сегодня остается непременной позицией католицизма, для которого характерна одна из форм двойного стандарта: целибат — обязательное безбрачие как высшая и духовная форма жизни католического духовенства, узаконенная церковью в XI веке и подтвержденная Ватиканом в 1967 году, с одной стороны, и мирской плотский брак одержимых греховными слабостями и страстями простых людей — с другой. В период Реформации эти позиции оставались незыблемыми для кальвинизма и отвергались лютеранством, рассматривающим брак в качестве священного установления. Но как бы то ни было, добрачное целомудрие и исключительно прокреативный смысл брака остаются для христианства непоколебимыми ценностями [1].
Буддизм традиционно ориентирован на монашескую жизнь, свободную от семейных обязательств. Поэтому может показаться, что буд- дистов не занимает тема семьи и воспитания детей. Но более 95 % буддистов — миряне, и этот вопрос, конечно, волнует их. Будда всегда подчеркивал, как важно поддерживать отношения между монашеской общиной и мирянами. Вот почему для буддийского общества особенно важен вопрос о том, как мирянин проживает свою жизнь и каким образом он воспитывает своих детей. Откуда следует предписание соблюдать особые правила и традиции. Будда сказал: «Мудрый человек должен избегать невоздержанности, как будто это сама преисподняя с раскаленными углями. Тот, кто не способен жить в безбрачии, по крайней мере, не должен нарушать чистоту жены, принадлежащей другому мужчине» [7]. В поучениях Будды содержится много советов главе семьи относительно важности семейной жизни и того, как ее вести. В отношениях между родителями и детьми дети должны: поддерживать своих родителей, исполнять свои обязанности по отношению к родителям, поддерживать свою семью и семейные традиции, быть достойными своих предков, подавать милостыню в память умерших родственников. Родители должны: удерживать детей от греха; направлять детей на путь истинный; заботиться об их воспитании; следить за тем, чтобы они вступали в брак в нужном возрасте; передавать им их наследство. В отношениях между мужем и женой муж должен: быть внимательным по отношению к жене; уважать ее; быть верным; заботиться об ее авторитете; обеспечивать ее одеждой и украшениями. Жена должна: хорошо исполнять свои обязанности в качестве домохозяйки; быть гостеприимной по отношению к родственникам; быть верной; беречь семейный достаток; быть умелой и трудолюбивой, исполняя свои обязанности. В азиатских странах, которые традиционно являются буддийскими, воспитание детей заключается в приобщении их к буддийским ценностям [7].
Прославляемая или отвергаемая плоть всегда занимала центральное место в иудаизме. В Библии, составляющей основу иудаизма, плоть трактуется главным образом в контексте культовых законов непорочности, которые определяют меру чистоты, достаточную для вхождения в храм или совершения обряда жертвоприношения. Так, человек, прикоснувшийся к умершему, считается нечистым. То же самое относится к больному, страдающему, например, некоторыми кожными заболеваниями. Большинство обычных отправлений человеческого тела, таких как мочеиспускание и дефекация, не влияют на чистоту плоти, в то время как отправления, связан- ные с половыми органами: излияние семени, менструация и патологические кровяные выделения, — лишают человека и его сексуального партнера чистоты.
Но одно дело — религиозные предписания и другое — реальная жизнь: уже само сохранение предписаний свидетельствует о несовпадении с ними реальности, иначе — зачем предписания? Это противоречие осознается и церковью, различающей в жизни церковное и мирское; оно если и не снимается, то, по крайней мере, смягчается так называемым ортодоксальным двойным стандартом: абсолютное требование добрачного целомудрия для женщин при относительно редком и едва ли совершенно серьезном ожидании его от мужчин. А так как эти полузапрещенные наслаждения невозможны без женщин, то мужчина был морально свободен получать их с «плохими» женщинами, а затем жениться на девственнице из «хороших». Церковное, в рамках которого сексуальность греховна, своеобразно уравновешивалось и компенсировалось смеховой и карнавальной культурами, в которых гротескно откровенные и гипертрофированные телесность и сексуальность занимали одно из центральных мест. Половая социализация как реальный процесс в силу этих и других причин всегда была шире, многограннее, чем просто реализация церковных догм в сфере пола и сексуальности.
Взрослое общество того времени сегодня кажется инфантильным не только из-за его умственного, но и физического возраста — доля детства и юношества в нем была значительно больше. Понятие о личности только еще начинало складываться, и специфическая природа детства как времени развития и становления личности еще не осознавалась: ребенок рассматривался как маленький взрослый, взрослый в миниатюре. Во всех живописных групповых сюжетах средневековья так или иначе присутствуют дети, но сложены и одеты они как взрослые. Дети были естественными компаньонами взрослых, а игры мальчиков — прежде всего рыцарскими, а потом уже детскими. Семья еще не приватизировалась (лишь в XV—XVI вв. появляется семейный портрет в интерьере) и существовала как союз супругов, а не как ячейка общества, осуществляющая социально важную функцию воспитания детей.
Каноны отношения к телесности и структура эмоциональной жизни людей средневековья были совсем иными, чем сегодня. Еще отсутствовала невидимая стена аффектов, отделяющих одно человеческое тело от другого. Учащение предписаний приватизации и интимизации естественных отправлений в XV—XVIII вв. свидетельствует, по замечаниям А. Я. Гуревича, о том, что в средние века порог неловкости и границы стыдливости проходили не там, где сегодня. Вплоть до XVIII века сон людей разного пола и возраста в одной постели был обычным явлением, и, кроме монахов, которым было запрещено раздеваться, все спали обнаженными. Стеснительность еще не была развита, и сексуальные отношения были не более чем частью — хотя и своеобразной — социальной жизни, не связанной с тем чувством стыда, которое позже стало покрывать эти отношения тайной. Сексуальную жизнь еще не стремились скрыть от детей, специально исключить из поля их восприятия.
Нетрудно, таким образом, заметить известную общность половой социализации в средние века и в «повторяющихся обществах»; половая социализация практически без остатка «растворена» в культуре, она не прелюдия и даже не подготовка к жизни, а неотъемлемая часть жизни.
Начиная с XVII—XVIII вв., по мере роста интереса к ребенку, появления отношения к нему как к объекту воспитания, по мере романтизации и сентиментализации детства как символа безмятежно-счастливой и естественной невинности, в отличие от холодной, испорченной и рассудочной взрослости, возникает и усиливается идеализация детства, несовместимая с предшествующей практикой половой социализации. Однако, по точному замечанию И. С. Кона (1983), этот культ идеализации детства не включал в себя даже грана интереса к реальной психологии подлинного, живого ребенка; в половой социализации стала нарастать противоречивость, обусловленная подгонкой реального детства под сплав этой идеализации и религиозной половой морали. Эта тенденция набирала силу, так что даже более реалистический подход к детству в первой половине XIX века, учитывающий его неоднозначность и противоречивость, не мог ей помешать, и много лет спустя Л. Н. Толстой, прекрасно понимавший и описавший личностные коллизии детского развития, говорил о постепенном развращении мальчика после детства и потом исправлении перед юностью.
Вопрос о поле и любви имеет центральное значение для всего нашего религиозно-философского и религиозно-общественного миросозерцания. Главный недостаток всех социальных теорий — это стыдливость, а часто лицемерное игнорирование источника жизни, винов- ника всей человеческой истории — половой любви (Н. Бердяев).
Как справедливо заметил французский философ Мишель Фуко, сексуальность — не простая природная данность, которую власть пытается удержать в определенных рамках, или темная сила, которую знание старается постепенно открыть и освоить. Сексуальность — исторический конструкт, неразрывно связанный с целостной системой общественных отношений.
До конца XIX века сексуально-эротические отношения и чувства в России были преимущественно аспектом индивидуальной жизни и предметом морально-религиозных дебатов. Но постепенно, как это несколькими десятилетиями раньше произошло в Западной Европе, контекст разговора о сексуальности расширяется: из сугубо частного, интимного явления, сексуальность становится частью глобального, макросо-циального «полового вопроса».
«Половой вопрос», как он формулировался в XIX веке, — прежде всего женский вопрос, в центре которого стоит проблема эмансипации и социального равноправия женщин в семье и общественной жизни. Однако он был также и вопросом сексуальным. Если раньше сексуальность обсуждалась преимущественно в религиозно-нравственных (греховное или нравственное поведение) и отчасти в эстетических (прекрасное или безобразное) терминах, то теперь рядом с ними возникает множество других, отчетливо социальных контекстов: сексуальность и способы регулирования рождаемости, сексуальность и брак, сексуальность и бедность, сексуальность и преступность, сексуальность и охрана общественного здоровья, сексуальность и коммерция, сексуальность и воспитание детей.
Все эти вопросы, конечно же, существовали и раньше, но общество старалось от них отмахнуться. Теперь это стало невозможно, причем представители разных профессий — врачи, юристы, демографы, криминологи, гигиенисты, сексологи, социальные работники, педагоги — не только по-разному их формулируют, но и предлагают принципиально разное их решение.
К концу XIX века диктуемая стремлением к сохранению традиционных укладов потребность в половом воспитании уже не обеспечивалась разрыхляющимися и разрушающимися системами вековых традиций и вынуждена была искать опору в естественно-научном изучении пола и сексуальности. Социальная и экономическая стратификация буржуазных обществ еще больше заострила противоречия отношения к полу, поставила индивида перед трудноразрешимым
(если вообще продуктивно разрешимым) конфликтом, на полюсах которого кристаллизуются, так сказать, сексуальный догматизм и сексуальная анархия, неизбежно сказывающиеся на воспитании подрастающих поколений. Выход из этого конфликта мог быть связан лишь с подготовкой общественной и индивидуальной психологии к восприятию и принятию объективных научных данных о психосексуальном мире человека. Реальные предпосылки для этого создаются в ходе научной революции второй половины XIX века с начинающимся переходом от трактовок пола и сексуальности в терминах религии и морали к естественно-научному анализу и зарождению научной сексологии.
В отечественной науке целостная разработка проблем сексологии представлена трудами И. С. Кона, на которые можно опираться в анализе полового воспитания.
В обыденном сознании сексология обычно отождествляется с сексопатологией как разделом клинической медицины. На самом же деле сексология — междисциплинарная область научных исследований и знаний, относящихся к половой жизни. В идеале ее можно сравнивать с равносторонним треугольником, стороны которого образованы биолого-медицинскими, историко-социологическими и психологическими исследованиями. Реальное соотношение сторон изменялось в ходе развития сексологии и, стремясь к идеалу, все же не совпадает с ним.
Медицина и сегодня не может, оперируя только биолого-медицинскими категориями и методами, исчерпывающе объяснить ни пол вообще, ни отклоняющиеся формы его проявлений. На рубеже XIX—XX вв. ее возможности были еще меньше (достаточно вспомнить, что, например, термин «гормон» введен лишь в 1902 г.). Включившаяся в обсуждение пола психология дополнила и существенно обогатила медико-биологические представления психологическими, допускающими вариативность индивидуальной нормы, существование непатологических отклонений от доминирующих психосексуальных стереотипов, смыкающихся с нормой степеней выраженности патологии. Историки и этнографы в трактовке данных о поле в других культурах стали все более отходить от взглядов, ранее приводивших к квалификации чужих обычаев и нравов как «дикости» [9].
Влияло ли это на половую социализацию? Об этом можно отчасти судить по реакциям на развивающуюся сексологию. Р. Краффт-Эбинга после публикации им книги «Сексуальная психопатия» (1886), многие места которой по цен- зурным соображениям были написаны по-латыни, обвиняли в смаковании грязных деталей и ставили вопрос о лишении его звания почетного члена Британской Медико-психологической ассоциации; И. Блох, которому принадлежит сам термин «сексология», вынужден был значительную часть своих трудов публиковать под псевдонимом; Т. Эллис — автор 7-томного «Исследования по психологии пола» подвергался судебному преследованию за «непристойность» его трудов; М. Хиршфельд основал первый в мире сексологический журнал в 1919 году и Сексологический институт, который был разгромлен нацистами; П. Мантегацца — автор книги «Половые отношения человечества» — едва не лишился профессорской кафедры и места в Сенате. Драматическая история сексологии на этом не кончается, а в некоторых странах и сегодня заниматься сексологией — значит рисковать.
Наибольший резонанс в первой половине XX века в странах Западной Европы имели сексологические аспекты психоанализа, нашедшего потом вторую родину в США. Ортодоксальный психоанализ З. Фрейда и множество стимулированных им разновидностей фрейдизма и неофрейдизма неоднократно обсуждались в советской литературе.
Кон И. С. подробно анализирует собственно сексологические аспекты теории З. Фрейда. Расширительная трактовка либидо как источника всей психической энергии человека, сексуализация человеческой эмоциональности привели в конечном итоге к пансексуализму. Вместе с тем они опровергли сведение сексуальности лишь к генитальным ее сторонам, выявили связь индивидуального полового поведения с культурными нормами, помогли понять социальные и психологические предпосылки некоторых сексуальных нарушений, сексуальной символики и запретов. Чрезвычайно важным было осмысление роли и значения сексуальности в жизни человека, необходимости ее не только для воспроизводства, но и для нормального развития личности; указание на органическую связь сексуального и несексуального в переживаниях приводило к пониманию того, что сексуальность непостижима вне личности, как и личность вне ее сексуальных переживаний. Не менее важным было понимание так называемых половых извращений как фиксации или гипертрофии отдельных сторон психосексуального онтогенеза — понимание, противостоявшее трактовке отклонений как дегенерации в лом-брозианском духе и открывавшее новые тера- певтические перспективы. Фрейдовские представления о фазности психосексуального развития оказали настолько глубокое влияние на воспитателей и воспитание, что мнение о сексуальной латентности возраста 5—10 лет до сих пор исповедуется педагогами, не только далекими от фрейдизма, но и принципиально не принимающими теории З. Фрейда.
Несмотря на определяющую для западной сексологии роль фрейдизма, влияние его оказалось очень противоречивым. Оценивая работы Фрейда сегодня, подчеркивает И. С. Кон, поражаешься тому, как точно он чувствовал основные проблемы сексологии, и тому, как ошибочны многие предложенные им решения этих проблем. Особо резко с современными представлениями, по мнению И. С. Кона, расходятся: 1) пансексуализм с его неопределенно-расширительной трактовкой понятия «половое» и пониманием либидо как особой глобальной сущности; 2) психогидравлическая модель сексуальности, согласно которой все пути реализации либидо неизбежно связаны с конфликтом сексуальности и культуры; 3) трактовка половых различий как проявлений универсального биологического закона; 4) теория детской сексуальности с ее якобы универсальными комплексами; 5) теория половой идентификации, редуцирующая этот сложный и многомерный процесс до отношений «родители — ребенок» и экстраполируемая на развитие личности в целом [8]. В результате начиная с 60-х гг. психоанализ все больше утрачивает ведущие позиции в западной сексологии, а наиболее авторитетные работы по сексологии написаны с не- или антифрей-дистских позиций.
Следующий этап представлен исследованиями А. Кинзи, изложенными в так называемых «Отчетах Кинзи». В 30—50-х гг. им осуществлено массовое социологическое исследование сексуального поведения человека, в центре которого стояло изучение поступков и фактов сексуальной жизни, а не искажаемых многими обстоятельствами мнений о них. Эта работа (проведено около 19 000 интервью, включающих 350—520 пунктов информации) остается до сих пор уникальной и эталонной, а полученные данные содержат информацию, порой остававшуюся неясной для самого Кинзи (например, на основании данных Кинзи Г. С. Васильченко в «Общей сексопатологии» сделал выводы о темпах полового созревания). Почти с самого начала деятельность А. Кинзи встретила мощное сопротивление, а в 50-х гг. по требованию маккартистов было прекращено финансирование его исследований, публикации изымались из библиотек, и комиссия по расследованию антиамериканской деятельности постановила, что исследования института ненаучны, их выводы оскорбляют население и продолжение его деятельности привело бы к ослаблению американской морали и способствовало бы коммунистическому перевороту. Хотя опросы, касавшиеся пола, проводились и раньше, работы Кинзи положили начало систематическим социологическим и социально-психологическим исследованиям сексуального поведения, дающим ценную информацию не только социологам и психологам, но и врачам, педагогам, воспитателям.
В 40—60-х гг. развитие сексологии шло по пути не только накопления информации, но и специализации, и дифференциации наук, изучающих пол и сексуальность. Но уже в русле этой специализации вызревает потребность в объединении получаемых данных, которое на первых порах осуществляется, как показано Г. С. Васильченко на примере сексопатологии, по псевдосистемному принципу арифметического, механического суммирования результатов, получаемых разными науками. Эти данные, в общем виде составляющие «треугольник сексологии», качественно различаются между собой и несводимы друг к другу. Выводить, подчеркивает И. С. Кон [8], исторически-конкретные формы полового разделения труда и связанные с ними психологические особенности мужчин и женщин из общих законов полового диморфизма — занятие столь же соблазнительно простое, сколько схоластическое. Междисциплинарная сексология как относительно самостоятельная системная отрасль знаний о человеке, становление которой еще не завершено, предполагает и выработку собственного категориального аппарата, и построение представлений о поле и сексуальности не только как о структуре, но и как о системе, которая всегда больше, чем просто сумма составляющих ее элементов, и которая позволяет не только объяснять уже известное настоящее, но и более или менее достоверно прогнозировать будущее.
И само зарождение сексологии, и динамика ее развития отражают не только теоретические достижения науки в узком ее понимании, но и интенсивное переосмысление значимости пола и сексуальности, их места и роли в жизни человека: «Раскрытие сенсационных тайн совсем не составляет сущности науки. Наука стремится обнаружить связь явлений, представлявшихся разрозненными, скрытые закономерности там, где поверхностный взгляд видел лишь скопле- ние случайностей, и на этой основе объяснить сущность изучаемого объекта» [1]. Обобщая данные этого переосмысления, С. И. Голод указывает на ведущие его аспекты: 1) понимание несводимости супружеской сексуальности к деторождению; несводимость эта, которая сравнительно недавно трактовалась как «патология» или «безнравственность», сегодня становится тривиальной; 2) сексуальность обретает равно существенное значение для мужчин и для женщин, выходит за пределы брака, реализуется и рассматривается в новой системе ценностей и отношений; характер, степень и значение этих изменений могут быть квалифицированы как революционные и актуализируют проблему поиска критериев нравственности повседневной практики человека в сфере пола и сексуальности; 3) отмеченные процессы автономизации матримониального, прокреативного и сексуального поведения изменяют их соотношение в общей картине.
Сексуальность теряет свою упрощенно-одиозную однозначность и все больше становится предметом рассмотрения в реально-личностном контексте. «Одна и та же» половая близость может быть обусловлена разными мотивами, скрывать за собой разные личностные смыслы, будучи средством: 1) релаксации и разрядки сексуального напряжения; 2) деторождения; 3) отдыха, достижения чувственного удовольствия; 4) познания, удовлетворения любознательности, любопытства; 5) общения, ибо физическая близость несет в себе момент глубочайшей доверительной интимности; 6) самоутверждения, проверки своих возможностей; 7) достижения несексуальных целей; 8) проявления привычки; 9) эмоциональной компенсации и т. д. (Кон И. С.). Меняется мир — меняется и «картина мира», влияющая на поведение человека, в том числе и в рассматриваемой сфере. В структуре половой социализации растет удельный вес отвечающего потребностям общества сознательного и обоснованного (нравственно и научно) формирования личности мужчин и женщин. Надежда на создание эффективной системы полового просвещения, службы семьи и сексопатологии без одновременного и даже опережаю- щего развития теоретической сексологии, включая ее эволюционно-биологические, психологические, социологические и этнокультурные аспекты, как отмечает И. С. Кон, — наивная и безответственная утопия.
«Чистой», замкнутой в себе науки для науки, однако, не существует, а даже если бы это было возможно — она не отвечала бы потребностям общественной практики. «Сексуальная революция» XX века, отражаемая сексологией, стимулирующая ее развитие, — процесс противоречивый и неоднозначный: оборотной стороной индивидуализации любых, в том числе сексуальных, отношений является их дегуманизация. Доминирование тех или иных процессов зависит прежде всего от образа жизни общества и системы ценностей, на которую ровняется личность. Недаром эти вопросы стали сейчас предметом идеологической борьбы.
Поэтому понимание полоролевой социализации и полового воспитания как аспекта прикладной сексологии не только не снимает, но и актуализирует понимание его как воспитания нравственного: именно нравственные установки определяют пути и цели приложения данных теоретической сексологии к практике воспитания в процессе социализации.
-
1. Исаев Д. Н., Каган В. Е. Половое воспитание детей. М. : Медицина, 1988. 160 с.
-
2. Сосновский А. Лики любви: Очерки истории половой морали. М. : Изд-во «Знание», 1992. 206 с.
-
3. Талалаж Я., Талалаж С. Самые невероятные в мире — секс, ритуалы, обычаи. М. : Крон-Пресс, 1998. С. 55—56.
-
4. Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии / отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. М. : Школа-Пресс, 1996. 272 с.
-
5. Рябцев Ю. С. История русской культуры 11—12 веков. М. : ВЛАДОС, 2001. С. 234—244.
-
6. Домострой : сб. М. : Художественная лит., 1991. 319 с.
-
7. Эррикер К. Религии мира: Буддизм. М., 1999. С. 216—227.
-
8. Кон И. С. Введение в сексологию. М. : Олимп, ИНФА, 1999. 288 с.
-
9. Калинин И. В. Психология внутреннего конфликта человека : учебно-методическое пособие. Ульяновск, 2003.
Список литературы Полоролевая социализация в историческом и религиозном аспектах
- Исаев Д. Н, Каган В. Е Половое воспитание детей. М.: Медицина, 1988. 160 с.
- Сосновский А. Лики любви: Очерки истории половой морали. М.: Изд-во «Знание», 1992. 206 с.
- Талалаж Я., Талалаж С. Самые невероятные в мире -секс, ритуалы, обычаи. М.: Крон-Пресс, 1998. С. 55-56.
- Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии/отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. М.: Школа-Пресс, 1996. 272 с.
- Рябцев Ю. С. История русской культуры 11-12 веков. М.: ВЛАДОС, 2001. С. 234-244.
- Домострой: сб. М.: Художественная лит., 1991. 319 с.
- Эррикер К. Религии мира: Буддизм. М., 1999. С. 216-227.
- Кон И. С. Введение в сексологию. М.: Олимп, ИНФА, 1999. 288 с.
- Калинин И. В. Психология внутреннего конфликта человека: учебно-методическое пособие. Ульяновск, 2003.