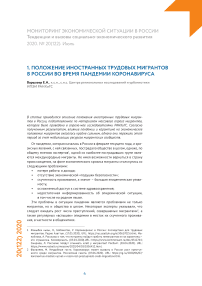Положение иностранных трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса
Автор: Варшавер Е.А.
Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr
Статья в выпуске: 20 (122), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье приводится описание положения иностранных трудовых мигрантов в России, подготовленное по материалам массового опроса мигрантов, которое было проведено в апреле-мае исследователями РАНХиГС. Согласно полученным результатам, влияние пандемии и карантина на экономическое положение мигрантов оказалось крайне сильным, однако они пережили этот период за счет мобилизации ресурсов мигрантских сообществ.
Короткий адрес: https://sciup.org/170176105
IDR: 170176105
Текст научной статьи Положение иностранных трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса
-
1. ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВВ РОССИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Варшавер Е.А., к.с.н., с.н.с. Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС
В статье приводится описание положения иностранных трудовых мигрантов в России, подготовленное по материалам массового опроса мигрантов, которое было проведено в апреле-мае исследователями РАНХиГС. Согласно полученным результатам, влияние пандемии и карантина на экономическое положение мигрантов оказалось крайне сильным, однако они пережили этот период за счет мобилизации ресурсов мигрантских сообществ.
От пандемии, которая началась в России в феврале текущего года, и кризисных явлений, с ней связанных, пострадало общество в целом, однако, по общему мнению экспертов1, одной из наиболее пострадавших групп являются международные мигранты. Не имея возможности вернуться в страну происхождения, на фоне экономического кризиса мигранты столкнулись со следующими проблемами:
-
• потеря работы и дохода;
-
• отсутствие экономической «подушки безопасности»;
-
• скученность проживания, а значит – большая эпидемическая уязвимость;
-
• осложненный доступ к системе здравоохранения;
-
• недостаточная информированность об эпидемической ситуации, в том числе на родном языке.
20(122) 2020
Эти проблемы в ситуации пандемии являются проблемами не только мигрантов, но и общества в целом. Некоторые эксперты указывали, что следует ожидать рост числа преступлений, совершаемых мигрантами2, а также регулярных «вспышек» эпидемии в местах их скученного проживания, в частности в общежитиях.
В ответ на эти вызовы государством и гражданским обществом были приняты различные меры, призванные уменьшить негативные эффекты положения мигрантов. В частности, 18 апреля Президентом России был подписан указ, согласно которому до 15 июня иностранцы могли пребывать и работать в стране без обычно необходимых для этого документов, в частности, патента. Известно, впрочем, что многие мигранты продолжали платить за патент. Одновременно разными организациями и частными людьми была организована преимущественно продуктовая помощь мигрантам. Масштаб и охват этой помощи, впрочем, оценить сложно.
За несколько дней до подготовки настоящей записки закончился срок «документарной амнистии» для мигрантов и Президентом РФ был подписан новый указ1, согласно которому возобновляется работа по патентам, однако возможность пребывания мигрантов в России без продления соответствующих документов пролонгируется до 15 сентября, до этого момента запрещается привлекать мигрантов к ответственности за нарушение правил пребывания. Параллельно начался постепенный выход из карантина. Вместе с тем пандемия продолжается, и некоторые эксперты ожидают «второй волны». В этой ситуации важно понять, что происходило с мигрантами, оставшимися в России, почти за три месяца ограничений, а также предложить меры, которые бы способствовали улучшению их положения и «перезапуску» экономики после снятия карантинных мер, но также предвосхищали «вторую волну» коронавируса в России.
20(122) 2020
Долгое время базой для экспертных мнений в отношении положения мигрантов во время коронавируса были преимущественно отрывочные данные, получаемые из СМИ, и исследования положения мигрантов, выполненные до пандемии. В апреле-мае исследователями РАНХиГС был проведен массовый опрос мигрантов, позволивший ответить на многие вопросы и существенно уточнить взгляд на ситуацию с мигрантами во время эпидемии. Сбор данных пришелся на апрель-май и был осуществлен через интернет, посредством рекламного таргетинга в социальных сетях (ВКонтакте и Instagram). Анкеты была доступна на русском, киргизском и узбекском языках. Опрашивались как мигранты, определяемые как люди, родившиеся в Узбекистане или Киргизии и/или имеющие гражданство этой страны, так и местные, определяемые как уроженцы России – для сравнения. Общее число опрошенных – 2 074, из них 465 – это местные по всей России, 546 – это мигранты по всей России (287 – мигранты из Киргизии, 259 – мигранты из Узбекистана), 512 – местные только по Москве (по столице была сделана отдельная подвыборка), 551 – мигранты по Москве (300 – мигранты из Киргизии, 251 – мигранты из Узбекистана). Выборка опроса квалифицируется как неслучайная, стихийная, квотная. Данные прошли внешнюю валидацию и были оценены на предмет смещений – в выборке несколько перепредставлены молодые возрасты и люди с образованием, а также – если говорить отдельно о подвыборке местных – женщины. По регионам и занятости данные, в целом, соответствуют имеющимся статистическим данным. Помимо данных опроса для уточнения выводов автор записки сравнивал и согласовывал их с официальной статистикой и публикациями в СМИ.
Экономическое положение
При том что эпидемия и карантин мощно ударили по экономике России и мира, мигранты действительно оказались в худшем положении, чем местные. Так, если взять данные по России и проанализировать только совокупность наемных работников, мигранты потеряли работу в 40% случаев, в то время как местные – только в 23% случаев. Если же суммировать эту цифру с долей тех, кто ушел в неоплачиваемый отпуск, доля тех, кто не работал и не получал заработную плату, составила 75% среди мигрантов против 48% среди местных. По Москве показатели почти не отличаются от российских данных: потерявших работу или ушедших в неоплачиваемый отпуск 76% среди мигрантов и 43% среди местных. Тех же, кто, потеряв работу, смог найти новую работу – не более 3% среди всех групп как в России, так и в Москве. На бедственное положение мигрантов указывают и данные об изменении дохода. Лишь у 19% мигрантов по России и 17% мигрантов по Москве доход остался таким же или увеличился, в то время как 51% мигрантов по России и 54% мигрантов по Москве, отвечая на этот вопрос, выбрали вариант ответа «я потерял все источники дохода». У местных этот показатель не настолько катастрофический: потерявших все источники дохода среди них 27% по России и 30% по Москве.
Ситуацию усугубляет то, что по России только у 31% из тех мигрантов, у кого доход сильно уменьшился или совсем исчез, есть члены домохозяйства, у которых доход остался, однако в этом смысле они не очень отличаются от местных, у которых соответствующая цифра – 38%. В этом отношении фиксируется существенная специфика московских мигрантов, у которых в домохозяйстве человек с доходом есть реже, чем и у мигрантов по России, и у московских местных. В столице этот показатель по мигрантам – всего 23%, в то время как местные могут положиться на члена домохозяйства, не потерявшего доход, в 45% случаев. А вот с «финансовой подушкой безопасности» ситуация такова, что мигранты в сравнении с местными так же часто (по Москве) или даже чуть чаще (по России) имеют накопления.
По России доля мигрантов, имеющих сбережения, – 42%, по Москве – 38%. Этих накоплений, однако, обычно хватает на более короткий промежуток времени, чем у местных, и, если считать, что карантин длился три месяца, лишь 10% мигрантов по России и 8% по Москве, потеряв доход, могли бы продержаться на своих сбережениях весь этот период. Если же рассчитать те же показатели только по тем мигрантам, кто фактически доход потерял, но имеющих сбережения на более чем 3 месяца, менее 2% как по России, так и по Москве. В целом, таким образом, потеряв все источники дохода – на индивидуальном уровне и уровне домохозяйства – часть мигрантов первое время жили на сбережения, однако – затем сбережения кончились, и как минимум для некоторых мигрантов, по всей вероятности, встал вопрос о физическом выживании.
20(122) 2020
Эпидемические риски
В начале эпидемии циркулировало мнение, согласно которому мигранты представляют особенную эпидемическую опасность по трем причинам: во-первых, они живут плотнее, чем местные, а значит «занесенный» в место проживания вирус инфицирует больше людей; во-вторых, они менее внимательно и ответственно относятся как к самому вирусу, так и к карантинным мерам; в-третьих, они реже обращаются к врачу и чаще занимаются самолечением. Проверим каждый из этих тезисов на данных.
Прежде всего, действительно, мигранты живут более скученно и плотно, чем местные. Так, порядка 30% мигрантов по России живут в общежитии или бытовке против 5% среди местных, а соотношение мигрантов и местных, живущих в частных домах, – 7 к 27%. В Москве эти цифры несколько иные, и как мигранты, так и местные несколько чаще, чем по России в целом, живут в квартирах (77% местные и 73% мигранты). В связи с этим важно оценить плотность проживания, которая была замерена через вопрос о количестве людей, живущих вместе с респондентом, если взять только живущих в квартире. Плотность различается примерно в 2 раза. По России вместе с респондентом-мигрантом живет еще 3,93 человека, вместе с респондентом-местным – 1,86. В Москве в принципе живут плотнее, однако разрыв сохраняется (4,3 – мигранты, 2,1 – местные). В такой ситуации, действительно, скорость распространения вируса среди мигрантов при прочих равных может быть выше, поскольку они чаще живут в общежитиях, и целом живут плотнее. Именно в таких условиях происходят вспышки коронавируса1.
Можно ли говорить о менее ответственном отношении мигрантов к вирусу? Респондентам было предложено согласиться или не согласиться с высказыванием «Коронавирус (COVID-19) не опаснее обычного гриппа». Как по России, так и по Москве, мигранты в большей степени, нежели местные, осознавали опасность коронавируса. Если, как следует из анализа данных по России, среднее значение по мигрантам 1,21 по шкале от 0 до 3 позволяет говорить, что они склонны не соглашаться с этим высказыванием, среднее значение 1,49 по местным следует интерпретировать как промежуточную позицию между согласием и несогласием. Более того, среди мигрантов фиксируется и большая лояльность мерам, вводимым государством для противодействия эпидемии, – они чаще согласны с высказыванием «Высшее руководство России делает все необходимое для предотвращения распространения коронавируса» (средние значения 1,8 против 1,2 среди местных). По Москве эти соотношения почти полностью повторяют российские. В целом, таким образом, о «безответственном» отношении к коронавирусу среди мигрантов говорить не приходится, скорее всего, они отнеслись к нему серьезнее, чем местные.
20(122) 2020
Важно также и то, что более серьезное отношение к коронавирусу среди мигрантов не требовало знания русского языка – те, кто заполнял анкету на киргизском и узбекском языках, значимо реже говорили, что коронавирус не опаснее гриппа, а значит мнение, согласно которому мигранты были «отключены» от глобальной повестки дня, связанной с эпидемией, за счет незнания русского языка, скорее всего, оказалось ошибочным. Возможно также, что в русскоязычном пространстве больше представлено «ковид-отрицание» и причины такого распределения остаются неизвестными. Насколько, однако, серьезное отношение преобразовывалось в действия, и мигрантами соблюдались те или иные гигиенические и карантинные меры? Исследование позволяет ответить на вопрос о соблюдении карантина, и, согласно данным по Москве, мигранты реже, чем немигранты выходили на улицу, нарушая самоизоляцию. Так, ни разу не выходили встретиться с друзьями, заняться спортом или прогуляться на свежем воздухе 48% мигрантов и 42% местных.
Серьезное отношение мигрантов к коронавирусу подтверждают и данные, которые моделируют поведение респондентов в ситуации, когда у них обнаруживается симптоматика коронавируса. Во многих работах транслируется мнение, согласно которому мигранты склонны переносить болезни «на ногах» или заниматься самолечением, откладывая лечение на возвращение в страну происхождения. Это принято связывать с тем, что среди всех видов врачебной помощи мигранты из стран – не членов ЕАЭС (например, Узбекистана) имеют доступ только к экстренной медпомощи (скорая помощь), а кроме того, полис добровольного медицинского страхования, который они обязаны предоставить при оформлении патента, довольно сложно использовать для получения реальной врачебной помощи. Известно также, что мигранты из Киргизии, которым по закону положен полис ОМС и, соответственно, помощь в том же объеме, в каком ее получают местные, далеко не всегда могут получить как полис, так и помощь.
Из материалов СМИ, посвященных мигрантам и коронавирусу, следовало также, что мигранты сталкиваются с отказами скорой помощи приезжать или госпитализировать при симптомах коронавируса1. В ситуации эпидемии, когда больницы и скорые были переполнены, впрочем, это происходило и с немигрантами, и поэтому сложно сказать, шла ли речь о схемах взаимодействия системы здравоохранения с мигрантами или – о ее функционировании в период эпидемии в целом. Так или иначе, согласно данным, полученным в ходе опроса, мигранты, наоборот, скорее вызовут скорую помощь или обратятся к врачу при симптомах коронавируса, чем немигранты. Доля ответивших «точно вызову» среди мигрантов составила 75% против 55% у местных по России и 80% против 63% у местных по Москве.
В этом отношении, кроме того, вопреки ожиданиям, почти нет различий между гражданами из Киргизии, государства – члена ЕАЭС, и гражданами из Узбекистана, страны, в ЕАЭС не входящей. Интересно, что в отношении такой же ситуации, но, по условиям вопроса, произошедшей до эпидемии, мигранты также продемонстрировали большее внимание к своему здоровью (55% тех, кто точно обратится к врачу против 26% у местных по России и 58% против 26% у местных по Москве), что заставляет иначе посмотреть на тему мигрантов и медицины, однако для нынешней ситуации важно, что мигранты, по всей видимости, осознают опасность ситуации и чаще всего обращаются за врачебной помощью. Остается открытым вопрос, насколько такая помощь им предоставляется, однако полученные данные не позволяют об этом судить, а других данных по этой теме на данный момент не существует. В целом, однако, можно заключить, что мигранты отнеслись к эпидемии со всей серьезностью.
Стратегии совладания
20(122) 2020
Осознание опасности коронавируса вкупе с массовой потерей работы, судя по всему, способствовало тому, что мигранты не пострадали от самого коронавируса в той степени, в какой это могло произойти, принимая во внимание характеристики их расселения. В открытом доступе данных по заболеваемости иностранцев нет, однако можно предположить, что, если бы действительно произошла вспышка коронавируса среди мигрантов, информационный фон был бы иным.
Был и другой прогноз, который состоял в том, что, потеряв средства к существованию и не имея возможности вернуться в страну происхождения, мигранты обратятся к криминальным стратегиям1. Этот прогноз был выгоден как националистически настроенным комментаторам2, так и тем, кто ратовал за организацию помощи мигрантам3. В результате, подобный алармизм стал своего рода «общим местом». 20 мая МВД представило статистику по преступлениям, в том числе совершаемым иностранцами, за 4 месяца 2020 г. и отдельно за апрель, что позволяет точнее оценить эффект карантина. Согласно этим данным, по сравнению с апрелем 2019 г. число «криминальных деяний, совершенных иностранцами, [сократилось] на 9,6%, в том числе убийств – на 14,3%, разбоев – на 7,8%, грабежей – на 28,6%, краж – на 5,9%»4. Эти данные требуют более детальной интерпретации, и, в частности, можно предположить, что уменьшение количества преступлений связано прежде всего со снижением количества перемещений и взаимодействий во время карантина, и для того, чтобы понять реальное воздействие карантина на уровень преступности, необходимо было бы высчитать количество преступлений к количеству возможностей их совершить, однако можно обоснованно утверждать, что «вспышки мигрантской преступности» и, в частности, роста имущественных преступлений, вопреки некоторым прогнозам, не произошло. Криминал не стал массовой стратегией совладания с непростой ситуацией, в которую попали мигранты в России во время эпидемии. Но какая же стратегия стала массовой?
Есть основания полагать, что такого рода коллективной стратегией стала солидарность и взаимопомощь по этнической линии. Респондентам было предложено согласиться или не согласиться с высказыванием «Последнее время я стал внимательнее к потребностям малознакомых людей, пытаюсь в случае чего помочь». По России среднее значение по местным составило 1,35 по шкале от 0 до 3, по мигрантам – 1,93, по Москве был зафиксирован еще больший разрыв: 1,18 против 1,96. На этих данных можно сделать предположение, согласно которому местные в ответ на эпидемию в большей степени замкнулись на себе, а мигранты стали пытаться помогать друг другу.
Предположение об «этнической линии» подтверждается тем, что установка на взаимопомощь в ситуации эпидемии сильнее у мигрантов из Киргизии, чем у мигрантов из Узбекистана, притом что про первых известно, что они, во-первых, больше концентрируются в Москве (57% опрошенных по России мигрантов из Киргизии находятся в Москве против 12% мигрантов из Узбекистана), более того, по многим причинам именно мигрантская инфраструктура граждан Киргизии в России более развита, чем инфраструктура мигрантов из других стран.
20(122) 2020
При этом, судя по всему, речь идет именно об организованной помощи, поскольку люди, на финансовую помощь которых мигранты могли бы рассчитывать, есть только у 35% мигрантов в России (это значение статистически значимо не отличается от соответствующего значения по местным), и у 25% мигрантов в Москве (что существенно меньше, чем у местных в Москве – 40%). Многочисленные публикации в СМИ, согласно которым ad hoc фонды продуктовой и прочей помощи стали массово возникать в России1, в целом говорят в пользу гипотезы о солидарности и взаимопомощи как основной стратегии совладания, однако также из этих публикаций можно заключить, что организация и источники помощи – крайне разнообразны, в частности, появляются фонды помощи соотечественникам за рубежом, а кроме того – помощь осуществляется не только по «этнической линии».
Детальное описание того, как оказывалась помощь, требует отдельного исследования. Важно, кроме того, что просоциальность как реакция на перипетии, вызванные коронавирусом, распространена среди мигрантов в большей степени, чем среди немигрантов: среди мигрантов существенно больше согласившихся с утверждением «Последнее время я стал чаще созваниваться или списываться с родственниками, с которыми не живу» (по России 1,21 у местных против 2 у мигрантов, по Москве 1,27 против 2,03).
* * *
Карантин, лишив мигрантов работы, но не выпустив их домой, ударил по ним больше, чем по другим группам населения, однако ни один из алармистских сценариев, в рамках которых мигрантские общежития стали бы местом интенсивного распространения вируса, а сами мигранты, лишившись работы, для выживания прибегнули бы к криминальным стратегиям, реализован не был. Первому, по всей видимости, способствовало, с одной стороны, то, что очень многие потеряли работу и большую часть времени находились дома, с другой, то, что мигранты отнеслись к коронавирусу достаточно серьезно. Второго не произошло в том числе и в связи с разного рода самоорганизацией и взаимопомощью, которые позволили мигрантам, потерявшим средства к существованию, не остаться одним и не начать голодать (впрочем, оснований думать, что в такой ситуации мигранты стали бы массово прибегать к криминальным стратегиям, в целом, не очень много).
20(122) 2020
В момент написания статьи карантинные меры постепенно снимаются, а значит, можно говорить о том, что, как минимум, первая волна позади и мигранты пережили этот период с потерями меньшими, чем ожидалось, и теперь их положение прежде всего зависит от того, как быстро экономика выйдет из кризиса. Вместе с тем есть основания ожидать вторую волну эпидемии в России и, если это произойдет, вполне возможно, что ресурсы, позволившие мигрантам продержаться в ходе первой волны, окончательно истощатся. Для разных сценариев были подготовлены разные рекомендации; кроме этого, была подготовлена одна частная рекомендация. Они приведены ниже.
-
1. Хотя благополучие мигрантов после первой волны пандемии прежде всего зависит от скорости «перезапуска» экономики в целом, есть рекомендация, которая касается именно мигрантов. Эта рекомендация связана с
-
2. В случае наступления второй волны коронавируса следует прибегнуть к двум мерам. Прежде всего – интенсифицировать контакты со среднеазиатскими государствами для организации массовых трансферов мигрантов, потерявших работу , а также – способствовать организации помощи нуждающимся мигрантам, временно закрыв их базовые потребности – в жилье и еде .
20(122) 2020
-
3. Последняя рекомендация носит более частный характер и касается вышедшего 15 июня Приказа Министерства здравоохранения1, согласно которому положительный тест на коронавирус становится основанием для «отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации». Среди прочего, согласно этому приказу, мигранты должны сдавать тест на коронавирус для получения патента, и в случае положительного результата, как следует из практики последних дней, мигранты не получают патент. Эта мера представляется ошибочной по двум основным причинам. Прежде всего, коронавирус по своим эпидемическим свойствам и по способам лечения отличается от прочих перечисленных в списке вирусных болезней, таких как сифилис, лепра и ВИЧ, и в случае соблюдения мер изоляции, зараженный уже через две недели перестает представлять опасность для окружающих, а значит лишать его возможности работать в России нецелесообразно. Вторая причина состоит в том, что в данный момент границы закрыты, а на депортацию и выдворение наложен запрет, т.е. больные в любом случае останутся в России. Более того, прохождение теста стоит около 2500 рублей, а значит высока вероятность, что мигранты, тест которых на коронавирус был положительным, после выздоровления не станут получать патент заново и станут работать незаконно. В целом, тест на коронавирус для мигрантов при получении патента является нецелесообразной мерой, и, как представляется, приказ Министерства здравоохранения от 15 июня 2020 г. необходимо отменить. ж
«привязкой» патентов к региону и специальности. На данный момент иностранцы, работающие по патенту, имеют право работать только в тех регионах, где патент был им выдан, а также только по специальностям, указанным в документе. Для того, чтобы приступить к работе в другом регионе или по другой специальности, необходимо оформить новый патент. Это требует времени и денег и существенно осложняет и замедляет «встречу» спроса и предложения на рынке труда. Вместе с тем ситуация нехватки рабочих рук сейчас, в частности, характеризует некоторые сельхозпредприятия, которые традиционно привлекали сезонных работников из-за границы. Для заполнения этих и других лакун целесообразным представляется снять ограничение на работу иностранцах в регионах иных и по специальностям иным, чем указано в патенте , и таким образом способствовать быстрому заполнению рабочих мест, улучшению положения мигрантов и перезапуску российской экономики после первого этапа пандемии.