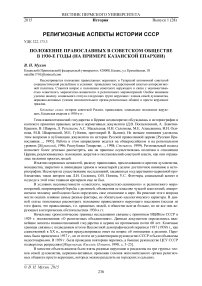Положение православных в советском обществе в 1930-е годы (на примере Казанской епархии)
Автор: Мухин В.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Религиозные аспекты истории СССР
Статья в выпуске: 1 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается положение православных верующих в Татарской автономной советской социалистической республике в условиях проведения государственной властью антирелигиозной политики. Ставится вопрос о положении советского верующего в связи с несовместимостью «советского, марксистско-ленинского» и религиозного мировоззрений. Особое внимание уделено анализу социального статуса следующих групп верующих: членов семей духовенства, церковно-активных (членов исполнительного органа религиозных общин) и просто верующих граждан.
История советской России, православие, социальное положение верующих, казанская епархия в 1930-е гг
Короткий адрес: https://sciup.org/147203875
IDR: 147203875 | УДК: 322.173.3
Текст научной статьи Положение православных в советском обществе в 1930-е годы (на примере Казанской епархии)
Тема взаимоотношений государства и Церкви неоднократно обсуждалась в историографии в контексте принятия правовых актов и нормативных документов (Д.В. Поспеловский, А. Левитин-Краснов, В. Шавров, Л. Регельсон, А.С. Масальская, И.Н. Селезнева, М.Е. Алексашина, И.И. Осипова, М.В. Шкаровский, М.Е. Губонин, протоиерей В. Цыпин). Не меньше внимания уделялось этим вопросам в публикации документов по истории Русской православной церкви [Русская Православная…, 1995]. Работа в этом направлении ведется на общероссийском и на региональном уровнях [ Журавский , 1996; Республика Татарстан…, 1998; Степанов, 1999). Региональный подход позволяет более детально рассмотреть, как на практике осуществлялась политика в отношении Церкви, реализовывались положения декретов и постановлений советской власти, как они отражались на жизни простых людей.
Изъятию церковных ценностей, расколу православия, преследованию и арестам духовенства, монашества, закрытию и ликвидации храмов и монастырей уделено достаточное внимание в историографии. Несмотря на существование исследований, касавшихся государственно-церковной проблематики, таких авторов как Л.И. Сосковец, О.В. Попова, У.С. Флэтчера, социальный аспект в подходе к этой теме главным критерием еще не был.
В условиях несовместимости «советского, марксистско-ленинского» и религиозного мировоззрений, непримиримой борьбы с религией, объявления ее классово чуждой идеологией, анахронизмом человеку необходимо было определить свое отношение к вере. На решение этого вопроса могли оказать влияние самые разные факторы, не обязательно идеологического характера. В данной статье попытаемся рассмотреть положение православного верующего населения (исходя из того факта, что православных, т.е. крещеных людей, в обществе всегда больше, но не все они верующие) в исторических обстоятельствах 1930-х гг.
Начальные хронологические границы исследования связаны с принятием ВЦИКом СССР в 1929 г. постановления «О религиозных объединениях». Данным документом определялись важнейшие аспекты взаимоотношений государства и церкви на протяжении почти 60 лет. Конечные границы связаны с подведением итогов Всесоюзной демографической переписи 1937 (1939) г., как единственной в ХХ в., которая предусматривала ответ на вопрос об отношении к религии. Перепись была проведена в 1937 г., но ее итоги не удовлетворили руководство СССР и были объявлены недостоверными. В 1939 г. была проведена повторная перепись, а бывшее руководство ЦСУ СССР подверглось репрессиям [ Жиромская, Киселев, Поляков , 1990, с. 3–25].
В качестве объекта анализа были взяты рядовые верующие и разделены на три группы: членов семей духовенства, церковно-активных прихожан (членов исполнительного органа религиозных общин) и просто верующих, которых можно разделить на городских и сельских.
Члены семей духовенства попадали под пресс государства за свою сословную принадлежность. Эта категория населения до 1936 г. оставалась неполноправной. Как «лишенцы», они были ограничены не только в избирательном праве, но и в выборе профессии, трудоустройстве, размерах заработной платы, даже в получении «заборных книжек» (карточек продовольственного снабжения) и медицинском обслуживании. Подобные ограничения и их эффективность неоднократно обсуждались на местном, республиканском, партийном уровне. «В практике вербовки в наши школы мы за последние годы особенно ставили рогатки для проникновения в школы детей духовенства», – говорилось на совещании Татарского ОК ВКП(б) в феврале 1931 г. (НА РТ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 62. Л. 52). В подобной ситуации оказывались и студенты. В прессе писалось о том, что «принимаются особые решения с требованием удалить из учебных заведений … детей попов, которым не место в советском вузе» [ Аеров , 1930, с.3]. Активисты Союза воинствующих безбожников останавливали киносеанс и требовали, чтобы «лишенцы» покинули зал, иначе картина демонстрироваться дальше не будет [ Крылова , 1998, с. 1]. Подобных примеров нарушения гражданских прав и умаления человеческого достоинства достаточно много.
Все это осложняло повседневные практики человека, ломало его судьбу, вносило раскол без явно обозначенных целей в целостность семейных отношений духовенства. Детей со школьного возраста подталкивали к тому, чтобы они начали видеть в своих родителях препятствие для полноценной жизни в обществе. В этих условиях вопрос становился ребром – или пребывание в числе изгоев, или разрыв с семьей.
Под надзор власти попали и миряне, имевшие обязанности в исполнительном органе религиозной общины. С 1931 г. списки членов религиозных общин, подаваемые в НКВД, должны были сопровождаться указанием профессии и происхождения. Это позволяло государству контролировать религиозное сознание граждан и проводить в этой области классовую политику, дифференцируя меры воздействия на тех или иных участников религиозных объединений. Согласно статистике не менее половины членов общин (а в некоторых общинах и значительно больше) было «из крестьян». Многие сведения о себе давать отказывались (такой вариант властями еще допускался) (НА РТ. Ф. Р – 732, Оп. 6. Д. 42. Л. 139). Редким можно признать список исполнительного органа Богоявленской общины, который был составлен 18 февраля 1934 г. и в котором Бунин Александр Дмитриевич указал свое дворянское происхождение (НА РТ. Ф. Р – 732. Оп. 6. Д. 12. Л. 4). С 1932 г. подобные документы содержали данные о количестве мужчин и женщин и о распределении их на служащих, рабочих, пенсионеров, домохозяек, служителей без избирательных прав (НА РТ. Ф. Р – 732. Оп. 6. Д. 54. Л. 36, 44, 45). Контроль над общинами со временем стал еще детальнее.
Практически на любом производственном собрании в городах затрагивался церковный вопрос. Предметом обсуждения служил либо отказ от работы в дни религиозных праздников, либо закрытие культовых зданий. Негативный подтекст при упоминании религии – обязательный фон собраний тех лет (НА РТ. Ф. Р – 732. Оп. 6. Д. 31. Л. 54; Д. 25. Л. 71). «Общее собрание рабочих считает, что религия есть одно из основных орудий служащее капиталу для эксплоатации рабочего класса» (НА РТ. Ф. Р – 3610. Оп. 5. Д. 4. Л. 44). «Отмечая опасную агитацию попов и сектантских религиозных обществ направленную против соцстроительства, решительным образом настаиваем на непременном закрытии церкви» (НА РТ. Ф. Р – 732. Оп. 6. Д. 28. Л. 97). «Молитвенные дома, церкви, мечети считать очагом одурманивания трудящейся массы» (НА РТ. Ф. Р – 732. Оп. 6. Д. 28. Л. 95). Подобными резолюциями пестрят протоколы рабочих собраний тех лет.
Быть на таких собраниях верующих вынуждали, хотя формально списки присутствовавших не составлялись и подписи участников не собирались (НА РТ. Ф. Р – 732. Оп. 6. Д. 199. Л. 49). При принятии резолюции собрания верующие вели себя по-разному. Одни открыто заявляли о своем несогласии с позицией большинства, что требовало изрядной смелости (НА РТ. Ф. Р – 732. Оп.1. Д.1383. Л. 272, 273). Другие же, «несмотря на настоятельные просьбы высказываться, не выступали и не высказывали своего мнения» (ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 2. Д. 927. Л. 48).
Заводские и фабричные активисты призывали к общественному бойкоту религиозных праздников (НА РТ. Ф. Р – 732. Оп. 6. Д. 28. Л. 95). Бойкотировались не столько праздники, сколько верующие. Трудящихся за празднование, например, Рождества Христова, называли «рождественскими прогульщиками», но традиции, тем не менее, соблюдались в узком семейном кругу. Колхозник религиозный «праздник-то все-таки отмечает: на пасху кулич спечет, в троицу березку у окна поставит» [Стручков, 1933, с. 31]. Советская власть, осознавая это, активно вмешивалась и в эту сфе- ру: «Борьба против религиозных праздников должна быть борьбой за выкорчевывание пережитков, связанных с этими праздниками, за преодоление праздника в быту» [Там же]. Так, в соответствии с Постановлением НКВД Татарской АССР от 23 декабря 1929 г. «О мерах по охране молодняка в лесах от вырубки в связи с религиозными обычаями и обрядностями» запрещались отпуск и торговля елками и березками для «применения их в декоративных целях в дни традиционных религиозных праздников» [Постановление НКВД…, 1929, с.1]». В сущности, этим постановлением под видом заботы о сохранении молодняка в лесах православных христиан пытались лишить возможности соблюдать традицию украшать храмы и свои жилища. Однако, по свидетельству газеты, за выполнением постановления никто не наблюдал. «Закон "в силе", но никем не выполняется. О нем забыли…» [Савосин, 1930, с. 4].
Для более полного освещения социального аспекта жизни верующих в исследуемый период, думаю, было бы нелишним обратить внимание на ту категорию населения, для которой и строили светлое будущее – на детей и подростков. Невзирая на разного рода директивы и постановления партийных органов, сельские школьники продолжали праздновать церковные праздники (НА РТ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 62. Л. 89). Именно поэтому в школах республики проводились антирождественские кампании, результаты которых вряд ли можно назвать успешными. Иллюстрацией этого служит факт, приведенный в статье М. Сунгурова «Антирелигиозное воспитание на основе новых программ (из опыта школ Средне-Волжского края)», опубликованной журналом «Антирелигиозник» (1932, № 11–12). «В одной из школ Чердаклинского района в антирождественскую кампанию школьники ходили по домам "славить христа"». Официально заявленной мотивацией соблюдения религиозной традиции, согласно автору, стал сбор средств для нужд школы. Утверждалось, что «в некоторых школах в религиозные праздники в виду слабой посещаемости учеников школы фактически не работают. Отмечены случаи, когда сами учителя, под предлогом различных объективных причин, закрывают школы как раз ко времени религиозных праздников» [ Сунгуров , 1932, № 11–12, с. 47].
Вопреки идеологическому давлению городские школьники также принимали участие в церковных праздниках. «Много есть фактов, когда дети справляли елку. Но есть еще и более серьезные факты, это прогулы в дни рождества. В школе им. Толстого ул. Кропоткина (Москва) 50 учащихся не вышли в школу 7 января» [ Вакурова , 1931, с. 68]. Факты подобного рода имели место и в городах ТАССР. Причем они не просто фиксировались, но и имели последствия, так за встречу Нового года с елкой исключали из комсомола [ Малышева , 2005, с. 43].
Не вызывает сомнений существование различий в укладе сельской жизни и городской, в религиозности сельской и городской. Дело в том, что народный календарь довольно давно и гармонично соединился с церковным, вследствие чего под антирелигиозное воздействие попадал природно-климатический цикл сельскохозяйственных работ. Запретительными мерами административного характера решить эту задачу не удалось, что отмечалось в периодике как центрального, так и местного уровня. Печатный орган Центрального совета Союза воинствующих безбожников – журнал «Антирелигиозник» – неоднократно отмечал влияние религиозных праздников на график сельхозработ. Так, в № 3 за 1930 г. А. Агиенко в статье «Антирелигиозная работа в связи с колхозным строительством» относит к «язвам старой деревни» то, что на селе отмечаются религиозные праздники во время горячей полевой работы (с.36). Чаще других в поле зрения попадали «Петров день» (12 июля по н.ст.) и Казанская (21 июля по н.ст.), чуть реже – «день Флора и Лавра» (31 августа по н. ст.) [ Румянцев , 1937. с. 47; Куразов , 1932. с. 44], до которого нельзя начинать покос [ Стручков , 1933, с. 31; Румянцев , 1937, с. 44]. В качестве примера Н. Румянцев отмечает, что в 1935 г. «до Петрова дня не приступали к покосу в восьми сельсоветах Пестречинского района Татарской республики. В «Красной Татарии» (1936, № 152) помещена заметка о председателе колхоза «Искра Ильича» Макарове, который «обстоятельно доказывает о преждевременности сенокоса, дескать, травы не созрели, "Петров" день не наступил».
Учитывая принадлежность сельских партийцев к крестьянам, что подразумевает влияние социальной ментальности и на их воспитание, и на их отношение к местным традициям, стоит обратить внимание на особую роль, которую они играли в качестве «проводников» политики партии в деревне. Этот факт приводил к поразительной способности представителей волостных партийных организаций сочетать в жизни противоположности: обязательное ведение антирелигиозной воспитательной работы и крещение своих детей, административное давление на священнослужителей и хождение в храм, принятие в своем доме духовенства, наличие икон. Отмечены случаи, когда коммунисты убрали иконы из дома только после закрытия церкви, причем инициаторами ее закрытия были местные жители, как, например, в селе Малая Кармалка Черемшанской волости (ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп. 2. Д. 817. Л. 19об.). Не только члены сельских ячеек ВКП (б), но и комсомольцы носили своих детей в церкви (НА РТ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 123. Л.59), участвовали в крестном ходе с певчими для освящения полей (НА РТ. Ф. Р – 732. Оп. 6. Д. 88. Л. 14). В статье «Горьковское областное партсовещание по антирелигиозной пропаганде» Д. Брауде приводит примеры обращений председателей колхозов к духовенству. Это позволяет сделать вывод, что подобного рода контакты были довольно распространенной и привычной практикой не только в Татреспублике [Брауде, 1937, с. 32, 33].
По причине близости к земле и уверенности в возможности прокормиться своим трудом при любой власти селяне позволяли себе более открыто демонстрировать свое несогласие с официальными установками. Это касалось и отношения к религии. Так, Татарский Народный Комиссариат юстиции неоднократно констатировал, что на религиозной почве «имеются серьезные конфликты с крестьянством» (НА РТ. Ф. Р– 3622, Оп. 2, Д.15, Л.9). Одной из существенных форм протеста был выход из колхоза. Запугивание вышедших результата не принесло (ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 2. Д. 927. Л. 53). Однако под воздействием идеологических установок ВКП(б) и мер административного воздействия религиозная жизнь в сельской местности все больше стала приобретать характер семейно-бытовой обрядности.
Напрашивается вывод о том, что усилия партии, правительства, общественных организаций ожидаемого действия не возымели. Это и было продемонстрировано при переписи населения 1937 г. По ее данным в СССР верующих среди лиц в возрасте 16 лет и старше оказалось больше, чем неверующих: 55,3 млн. против 42,2 млн., или 56,7% против 43,3% от всех респондентов [ Жиром-ская и др. , 1990 г.].
Список литературы Положение православных в советском обществе в 1930-е годы (на примере Казанской епархии)
- William С. Fletcher Soviet Believers: The Religious Sector of the Population//Russian Review. 1982. Vol. 41, №4
- Брауде Д. Горьковское областное партсовещание по антирелигиозной пропаганде//Антирелигиозник. 1937. №6
- Вакурова А. Юные безбожники в антипасхальную кампанию//Антирелигиозник. 1931. № 3
- Воспоминания А.А. Крыловой//Личный архив автора
- Губонин М.Е. Патриарх Тихон и история Русской Церковной смуты. СПб., 1994
- Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.Л. Полвека под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937г. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/girom/index.php (дата обращения: 14.07.2014)
- Жиромская В.Б., Киселев И.Н. Поляков Ю.А. Полвека молчания//Соц. исследования. 1990. № 6
- Журавский А.В. Жизнеописания новых мучеников Казанских, год 1918-й. М., 1996
- Журавский А.В., Липаков Е.В. Православные храмы Татарстана. Казань, 2000. А
- Аеров В. Кому не место в вузах//Красная Татария. 1930. 10 янв
- Савосин Ст. Прекратить вырубку к дням Пасхи пихт и елок//Красная Татария 1930. 17 апр.
- Куразов П. Религиозные праздники и безрелигиозный колхозный быт//Антирелигиозник. 1932. № 5
- Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории Русской Церковной смуты. М., 1996
- Малышева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917 -1927). Казань, 2005, с. 43.
- Масальская А.С, Селезнева И.Н., Алексашина М.Е. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство 1917 -1941. М., 1996
- Национальный Архив Республики Татарстан (далее НА РТ). Ф. 5263. On. 1. Д. 62. Л.89
- Осипова И.И. Сквозь огнь мучений и воду слез...: Гонения на Истинно-Православную Церковь. М., 1998
- Попова О. В. Взаимоотношения церкви и государства в СССР: традиции и опыт//Метаморфозы истории. 2002. №3
- Поспеловский Д.В. Русская Православная церковь в XX веке. М., 1995
- Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви. М., 1997. Кн. 9
- Регельсон Л.Л. Трагедия Русской Церкви 1917 -1945. М., 1996
- Республика Татарстан: Православные памятники (середина -начало XX в.)./под рук. Е.В. Липако-ва. Казань, 1998
- Румянцев Н. Летние праздники//Антирелигиозник. 1937. № 5
- Русская Православная Церковь в советское время (1917 -1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью./сост. Г. Штриккер. М., 1995
- Русская Церковь XX век. Кн. 1: матер, конф. «История Русской Православной Церкви в XX веке (1917 -1933 г.г.)»
- Сосковец Л. И. Советские верующие: общие социодемографические и культурные характеристики. Вестник Томского государственного университета. 2004. № 281
- Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту. Казань, 1999
- Стручков Г. Организация и методика антирелигиозной пропаганды. Антирелигиозная работа колхозной стенгазеты. Что надо не упускать из виду в борьбе против религиозных праздников//Антирелигиозник. 1933. № 3
- Сунгуров М. Антирелигиозное воспитание на основе новых программ (из опыта школ Средне-Волжского края)//Антирелигиозник. 1932. № 11-12
- Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 1999
- Постановление НКВД Татарской АССР от 23 декабря 1929 г. «О мерах по охране молодняка в лесах от вырубки в связи с религиозными обычаями и обрядностями»//Красная Татария 1929. 31 дек