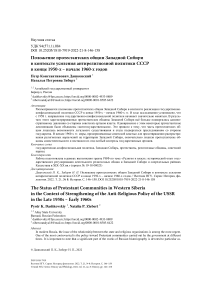Положение протестантских общин Западной Сибири в контексте усиления антирелигиозной политики СССР в конце 1950-х - начале 1960-х годов
Автор: Дашковский П.К., Зиберт Н.П.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается положение протестантских общин Западной Сибири в контексте реализации государственно-конфессиональной политики СССР в конце 1950-х - начале 1960-х гг. В ходе исследования установлено, что с 1958 г. направление государственно-конфессиональной политики начинает значительно меняться. В результате этого зарегистрированные протестантские общины Западной Сибири всё больше подвергались административному давлению со стороны советских органов власти. Одновременно с этим некоторые протестантские деноминации были объявлены «антигосударственными». Это привело к тому, что часть протестантских общин лишилась возможности легального существования и стала подвергаться преследованиям со стороны государства. В начале 1960-х гг. меры, предпринимаемые советской властью для предотвращения распространения религиозных вероучений на территории Западной Сибири, окончательно лишили протестантские общины самостоятельности и поставили их под особый контроль государственных органов.
Государственно-конфессиональная политика, западная сибирь, протестанты, религиозные общины, советский период
Короткий адрес: https://sciup.org/147239018
IDR: 147239018 | УДК: 94(571.1).084 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-8-146-158
Текст научной статьи Положение протестантских общин Западной Сибири в контексте усиления антирелигиозной политики СССР в конце 1950-х - начале 1960-х годов
Dashkovskiy P. K., Ziebert N. P. The Status of Protestant Сommunities in Western Siberia in the Context of Strengthening of the Anti-Religious Policy of the USSR in the Late 1950s – Early 1960s. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 8: History, pp. 146–158. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-8-146-158
В России вопросы государственно-конфессиональной политики продолжают оставаться актуальными на протяжении длительного периода. В настоящее время перед государством, которое играет главенствующую роль в регулировании межконфессиональных и межнациональных отношений, стоит задача построения эффективной государственно-конфессиональной системы отношений. При этом следует учитывать то влияние, которое религиозные объединения оказывают на общественные процессы, активно продвигая свои социальные инициативы, а также накопленный исторический опыт в сфере государственно-религиозного взаимодействия.
Особое место в системе государственно-конфессиональных отношений занимают протестантские общины, история функционирования которых является достаточно сложной и мало изученной. Следует отметить, что в отечественной историографии есть ряд работ, посвященных отдельным аспектам деятельности протестантских общин в Западной Сибири в рассматриваемый период. В качестве примера можно привести работы А. В. Горбатова [2008; 2015], Е. А. Серовой [2011], Е. В. Конева [2020], Л. И. Сосковец [2003]. Значительный вклад в изучение истории деятельности протестантских общин Сибири внесли В. П. Клюева, А. И. Савин, В. Дённингхаус. Рассматривалась региональная специфика государственно-конфессиональных отношений, в том числе некоторые аспекты функционирования различных протестантских деноминаций [Белякова, Клюева, 2018; Клюева, 2015; Глушаев, Клюева, 2014; Клюева, 2012; 2009; Савин, Дённингхаус, 2017; Савин, 2020].
Исследованием протестантских общин на территории Алтайского края советского периода занималась Е. Е. Жеребятьева [2009; 2012]. Кроме того, среди работ, отчасти касающихся данной проблематики, следует отметить монографии, опубликованные в последние годы, некоторые разделы которых освещают положение протестантских общин на территории Западной Сибири в советский период [Серова, 2019; Дашковский, Дворянчикова, 2019; Даш-ковский, Зиберт, 2020; Протестантизм…, 2006; Волохов, 2009; Черказьянова, 2009; Вибе, Сенникова, 2009; Савин, 2015; Савин, Смирнова, 2021].
В данной статье предпринята попытка комплексного исследования положения протестантских общин Западной Сибири в конце 1950-х – середине 1960-х гг. При этом в качестве основной источниковой базы исследования выступили архивные материалы, многие из которых вводятся в научный оборот впервые, что позволяет существенно расширить историографию изучаемого вопроса.
Государственно-конфессиональная политика, проводимая в годы нахождения у власти Н. С. Хрущева, несомненно, является одной из самых сложных для протестантских общин за весь период их функционирования в СССР. Первые годы руководства страной Н. С. Хрущевым характеризовались сохранением в государственно-конфессиональной политике страны курса, сложившегося в последние годы жизни И. В. Сталина, в ходе реализации которого не предполагалось значительного наступления на религию [Болтрушевич, 2020, c. 220]. Одновременно с этим деятельность религиозных организаций тщательно контролировалась государственными органами власти, опасавшимися усиления религиозных настроений среди населения.
Постепенное и систематическое ужесточение религиозной политики началось после состоявшегося в феврале 1956 г. XX съезда КПСС (Доклад…, 1959, с. 60), но наибольшего размаха, борьба с религией приобрела в период с 1958 по 1964 г. [Шкаровский, 2010, с. 59].
Так, 12 сентября 1958 г. вышла записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды». В этом документе отмечалось значительное ослабление научно-атеистической пропаганды в ряде регионов, усиление миссионерско-проповеднической деятельности религиозных групп, активизация деятельности и количественный рост сектантов 1. Спустя месяц, в октябре 1958 г. ЦК КПСС было выпущено секретное постановление «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам “О недостатках научно-атеистической пропаганды”» [Костылев и др., 2014, c. 168], согласно которому следовало начать наступление на «религиозные пережитки» советских людей. Помимо этого, ставилась задача развернуть широкую сеть по подготовке атеистических кадров и усилить научно - атеистическую пропаганду среди трудящихся [Пибаев, 2021, c. 21].
С целью усиления контроля за различными аспектами религиозной жизни населения в 1958 г. были выпущены такие постановления, как «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также доходов монастырей», «О монастырях в СССР» [Там же], «О мерах по прекращению паломничества к так называемым “святым местам”» [Арапов, 2011, с. 328]. Следует отметить, что в результате действия данных постановлений в Западной Сибири под усиленный контроль попали зарегистрированные общины Русской православной церкви, а также некоторые общины нехристианских конфессий. Необходимость отслеживания и пресечения деятельности нелегальных групп, еще в ноябре 1958 г. отмечал председатель СДРК РСФСР А. А. Пузин, выступающий на Всесоюзном совещании уполномоченных СДРК РСФСР. По его данным, в 1958 г. в стране насчитывалось 1 715 «сект изуверческого и антигосударственного характера», требующих особого внимания уполномоченных на местах [Одинцов, 2020, c. 382].
Новый курс государственно - конфессиональной политики нашел свое выражение в «Инструкции по применению законодательства о культах», окончательный проект которой в 1961 г. был представлен в ЦК КПСС [Там же, с. 387]. Одновременно с этим определялся перечень «запрещенных сект», не подлежащих регистрации. Проведенный единовременный учет действовавших в СССР религиозных объединений выявил к началу 1961 г. 6 486 неправославных религиозных общин, функционировавших без регистрации. Следует отметить, что лишение некоторых общин возможности получить регистрацию, с одной стороны, упростило задачу по пресечению деятельности таких объединений верующих. С другой стороны, это обстоятельство вывело из-под контроля органов власти большое количество религиозных общин во всех регионах страны. К началу 1960-х гг. верующие успели привыкнуть к «подпольной» жизни, научились соблюдать конспирацию и не боялись лишиться регистрации
[Никольская, 2009, с. 183]. Обозначенная тенденция сохранялась и в период определенных демократических преобразований в СССР вплоть до его распада [Никольская, 2021, c. 122 – 129].
Впоследствии уполномоченных СДРК РСФСР и СДРПЦ РСФСР обязали информировать центральные аппараты Советов о количестве действующих в регионах не зарегистрированных религиозных объединений [Одинцов, 2020, с. 389, 390, 392 – 393]. В результате на территории Западной Сибири было установлено большое количество незарегистрированных религиозных групп. Так, в начале 1960 - х гг. в Новосибирской области насчитывалось около 100 нелегальных общин. Сектантские объединения имелись в 14 районах и 9 городах Алтайского края [Сосковец, 2003, с. 72]. В Омской области на 1 января 1962 г. было учтено 76 незарегистрированных религиозных групп, в которых состояло не менее 5 тыс. чел. 2, в 1963 г. на учете в данной области числилось уже более 80 незарегистрированных религиозных групп 3. В то же время руководство некоторых районов в своих отчетах фиксировало только зарегистрированные религиозные группы, умалчивая о наличии нелегальных религиозных групп и отдельных верующих 4.
В октябре 1961 г. состоялся XXII съезд партии, на котором было принято решение о расширении антирелигиозного наступления [Егоров, 2018, с. 42]. Последнее выражалось в усилении административного давления на зарегистрированные религиозные группы, а также в уголовном преследовании лиц, подозревавшихся в нарушении законодательства о религиозных культах. Чаще всего для этого использовались ст. 142 («Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви») и ст. 227 («Посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов») Уголовного кодекса РСФСР. На территории СССР в 1961 – 1965 гг. за нарушение законодательства о религиозных культах было привлечено к уголовной ответственности 1 234 чел. [Одинцов, 2020, с. 395]
Кроме того, в качестве метода борьбы с так называемым сектантством широкое распространение получила высылка в отдаленные районы страны религиозных служителей и наиболее активных верующих. При этом активно использовалось постановление «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 г. По имеющимся данным, в 1961–1964 гг. в отдаленные районы страны было выслано более 400 верующих [Никольская, 2009, с. 188]. Следует отметить, что руководители нелегальных религиозных групп зачастую продолжали поддерживать связь с единоверцами, оставшимися на прежнем месте жительства, и пытались организовать новые религиозные объединения в месте ссылки [Конев, 2020, с. 22]. Так, например, руководитель Всесоюзного объединения адвентистов седьмого дня П. А. Мацанов, высланный в Новосибирск, не только предпринимал меры по восстановлению ликвидированной группы адвентистов седьмого дня, но и направлял своих агентов во Владивосток, Барнаул, Семипалатинск, Алма-Ату и Кемерово 5. На территории Томской области организаторами новых религиозных объединений выступали 7 ссыльных адвентистов седьмого дня, в том числе Ю. В. Мориц, С. С. Дубняк, Ю. А. Данильсон [Там же]. На основании ст. 227 УК РСФСР руководитель барнаульской общины евангельских христиан-баптистов С. Пиджаков и его помощник М. Пилипенко были осуждены на 5 лет лишения свободы [Дашковский, Дворянчикова, 2015, c. 81]. В 1961 г. руководитель омской общины евангельских христиан-баптистов П. Г. Ковалев был осужден на 5 лет 6. В этом же году состоялся общественный суд над руководителями омской группы свидетелей Иеговы 7. Сложившаяся в Западной Сибири ситуация не являлась исключитель- ной и наблюдалась во многих регионах РСФСР. Так, например, Уполномоченный СДРК РСФСР по Оренбургской области отмечал: «Когда одних, более активных организаторов изымали из поселков, их заменяли другие, малозаметные до того проповедники» [Тюлюлю-кин, 2006, с. 159].
Другой особенностью рассматриваемого периода стало значительное усиление административного давления на зарегистрированные общины и закрытие молитвенных домов. После многочисленных притеснений в 1960 г. были закрыты общины евангельских христиан-баптистов Новосибирска и Купино Новосибирской области 8. В Омске двум объединившимся для регистрации общинам молокан под руководством Дружина и Коробова было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства 9. О широком распространении грубого администрирования свидетельствуют «закрытые» доклады Председателя СДРК РСФСР А. А. Пузина. В них отмечалось повсеместное незаконное закрытие молитвенных домов, отказы в регистрации, разгон религиозных собраний, незаконное увольнение верующих с работы и привлечение последних к уголовной ответственности [Ярыгин, 2015, с. 67]. Характерной является ситуация, сложившаяся в Омске. После того как в 1949 г. исполком областного Совета депутатов трудящихся лишил регистрации местную общину евангельских христиан-баптистов, насчитывавшую около 300 верующих, последняя распалась на 18 более мелких групп, которые стали собираться на нелегальные молитвенные собрания в различных частях города. Причем к 1963 г. количество верующих, посещающих данные собрания, увеличилось до 1 000 чел. 10 Кроме того, из числа верующих выделилась реакционная группа в составе 400 чел., члены которой отказывались соблюдать советское законодательство о культах и сознательно выступали против регистрации 11. Еще одним поводом для разногласий в среде протестантских групп стало принятие пленумом ВСЕХБ «Положения о Союзе евангельских христиан-баптистов в СССР» и «Инструктивного письма старшим пресвитерам ВСЕХБ» [История Евангельских христиан-баптистов в СССР, 1989, c. 240], текст которых был воспринят большинством верующих, как «отступление от заветов Христа и учения апостолов». Лишь незначительная часть верующих согласилась с данными нововведениями, в то время как большинство выразили несогласие и возмущение. По всей видимости, подготовка данных документов велась под непосредственным контролем СДРК РСФСР, что косвенно подтверждается как содержанием последних, так и речью председателя ВСЕХБ Я. И. Жидкова на пленуме ВСЕХБ в 1959 г. [Там же, с. 240–241]. Ограничение автономии поместных церквей, запрещение некоторых видов проповеднической деятельности и религиозного обучения детей привели к публичной критике позиций руководящего состава ВСЕХБ со стороны верующих и формированию инициативной группы во главе с А. Ф. Прокофьевым и Г. К. Крючковым [Глушаев, 2017, с. 105], которая позднее была преобразована в Оргкомитет и положила начало движению баптистов-инициативников [Никольская, 2003, c. 25].
В 1962 г. на Всесоюзной конференции по научно-атеистической пропаганде в очередной раз был поднят вопрос о вытеснении религиозных обычаев и традиций новыми советскими праздниками и ритуалами [Егоров, 2018, c. 42]. В результате во всех регионах страны развернулась широкая антирелигиозная пропаганда, направленная на подавление деятельности религиозных организаций. Местные газеты регулярно писали о реакционной сущности религии, разоблачали священнослужителей. Так, например, одна из новосибирских газет опубликовала заметку с порицанием неблаговидных поступков некоторых проповедников общины евангельских христиан-баптистов 12.
В целом следует отметить что, несмотря на то что усиление антирелигиозной пропаганды привело к сокращению количества официальных заявлений и обращений верующих, сущест- венных изменений в количестве людей, посещающих религиозные собрания, не наблюдалось. Более того, в ряде регионов местные власти продолжали фиксировать нелегальные религиозные группы, деятельность которых не поддавалась контролю. Уполномоченный СДРК РСФСР по Новосибирской области в своих отчетах отмечал слабое и разобщенное проведение антирелигиозной работы учреждениями области. По мнению последнего, областные финансовые органы недостаточно контролировали руководителей религиозных организаций, областной отдел здравоохранения неудовлетворительно вел работу по атеистическому воспитанию медицинских работников. Органы МВД попустительствовали деятелям религиозных обществ, которые, как считалось, совершали уголовные преступления 13. Случаи лояльного отношения к верующим со стороны руководства предприятий и учреждений фиксировались и в других регионах страны [Никольская, 2009, с. 200].
Практически во всех районах и городах Западной Сибири фиксировались незарегистрированные религиозные группы, действия которых слабо контролировались. В Омской области уполномоченный СДРК РСФСР по данному региону И. Бутюгов отмечал, что выполнение постановления Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. об усилении контроля за выполнением законодательства о культах было сопряжено с множеством трудностей. В частности при учете фактически действующих, но не зарегистрированных объединений выяснилось, что большинство исполкомов районных и сельских советов ранее не занимались изучением наличия религиозных групп, действующих на подведомственной им территории, либо знали о наличии таких групп, но не придавали данным фактам должного значения. Зачастую представители органов власти знали только проповедников нелегально действующих групп и не имели представления ни об их численном составе, ни о проводимой деятельности и содержании религиозного учения. Атеистическая работа при этом проводилась нерегулярно и не координировалась местными партийными организациями. В антирелигиозной работе отсутствовало определенное направление на то или иное религиозное течение 14. При этом, несмотря на значительное усиление атеистической работы среди населения через печать, радио, телевидение и устную пропаганду, фактов сокращения деятельности сектантов всех толков и направлений не наблюдалось. Кроме того, И. Бутюгов ставил под сомнение эффективность народных судов, проведенных в первом полугодии 1962 г. 15
Не менее показательны данные по Новосибирской области. В Новосибирске функционировала незарегистрированная община евангельских христиан-баптистов, в которой на 1 января 1964 г. состояло 1 468 чел. 16 Кроме того, в городах и селах Новосибирской области действовали группы лютеран, меннонитов, пятидесятников, свидетелей Иеговы, истинно-православных христиан 17. В Омской области к 1 января 1964 г. на учете состояло более 80 незарегистрированных религиозных групп верующих 18.
Важно отметить, что деятельность большинства религиозных групп, перечисленных выше, была установлена путем тайного наблюдения. Рядовые верующие в условиях жесткой антирелигиозной пропаганды и уголовного преследования, как правило, избегали демонстративного поведения и предпочитали не афишировать свою религиозность. В свою очередь, местные органы государственной власти зачастую предпочитали закрывать глаза на наличие в некоторых населенных пунктах религиозных групп, до тех пор, пока о данных фактах не становилось известно вышестоящим органам власти. Кроме того, в среде верующих фиксировались лица, активно заявляющие о своей религиозности, несмотря на угрозу уголовного преследования и возможную высылку в другой регион. Как уже отмечалось, такая ситуация не являлась исключительной. В рассматриваемый период во многих регионах РСФСР фик- сировались нелегально действующие группы верующих, отношение к которым со стороны руководства предприятий и учреждений в некоторых случаях было достаточно лояльным. Кроме того, ссылка в отдаленные районы зачастую рассматривалась верующими не как наказание, а как один из способов распространения религиозного учения. В последствии данный метод борьбы с религией был признан властями «не всегда оправданным, а иногда даже вредным» [Никольская, 2009, с. 188].
Противоречивые результаты были получены и в отношении регулирования деятельности общин непротестантской направленности. Так, по данным М. В. Шкаровского, в 1958– 1964 гг. в РСФСР православная обрядность оставалась примерно на одном уровне: 33 % умерших отпевали и 30 % новорожденных крестили [Шкаровский, 2010, с. 63]. При этом в силу широкого распространения выполнения религиозных треб на дому у священников сложно установить точную численность и динамику православных обрядов, совершенных в Западной Сибири в период с 1958 по 1964 г. 19 В то же время следует отметить активную благотворительную деятельность духовенства Ставропольского и Алтайского краев, Томской, Оренбургской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Новосибирской, Кировской, Вологодской и других областей, осуществляемую в рассматриваемый период и выражающуюся в финансовой помощи «бедным», «сиротам», «погорельцам» и прочим нуждающимся 20. К 1964 г. снизились доходы в функционирующих в Новосибирске иудейской, мусульманской и старообрядческой общинах. При этом выплаты персоналу в иудейской общине увеличились с 1 433 руб. в 1964 г. до 1 683 руб. в 1964 г. 21
Таким образом, активная наступательная антирелигиозная пропаганда, лишение регистрации значительного количества религиозных общин, в том числе и протестантских, объявление некоторых из религиозных групп «изуверческими антигосударственными сектами» привели к тому, что к середине 1960-х гг. внешние проявления религиозной жизни среди населения рассматриваемого региона заметно уменьшились. Одновременно с этим увеличилось число различных религиозных групп, осуществлявших свою деятельность скрытно. При этом в условиях государственной антирелигиозной политики не только верующие предпочитали скрывать свои религиозные убеждения. Зачастую, об истинном положении дел умалчивали руководители районов, пытающиеся таким образом улучшить статистику, а также руководство предприятий и учреждений, нежелающее терять своих сотрудников.
Список литературы Положение протестантских общин Западной Сибири в контексте усиления антирелигиозной политики СССР в конце 1950-х - начале 1960-х годов
- Арапов Д. Ю. Ислам и советское государство (1944-1990): Сб. док. М.: ИД Марджани, 2011. Вып. 3. 529 с.
- Белякова Н. А., Клюева В. П. «Она привела меня к баптистам, а я ее к пятидесятникам». Специфика коммуникативных практик евангельских общин в позднем СССР // Диалог со временем. 2018. № 62. С. 294-311.
- Болтрушевич Н. Г. Политика советского государства в отношении православной церкви в 1954-1958 гг. (по материалам БССР) // Науч. тр. Республ. ин-та высшей школы. 2020. № 20-1. С. 219-230.
- Вибе П. П., Сенникова Л. И. Религиозная жизнь немецкого населения Сибири во второй половине XX в. // История и этнография немцев в Сибири. Омск, 2009. С. 523-548.
- Волохов С. П. Гражданская инициатива и протест немцев Сибири по вопросу восстановления национальной автономии и осуществления права на эмиграцию // История и этнография немцев в Сибири. Омск, 2009. С. 503-512.
- Глушаев А. Л. Раскол в баптизме: «инициативники» и «религиозный экстремизм» в интерпретациях советской атеистической литературы 1960-1980-х гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2017. № 71. С. 104-118.
- Глушаев А., Клюева В. «Новые» меннониты Урала и Сибири: генезис и трансформация этноконфессиональных сообществ в 1940-1960-е годы // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2014. Т. 32, № 4. С. 295-313.
- Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е - 1960-е годы. Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. 406 с.
- Горбатов А. В. Объединения Евангельских христиан-баптистов в Сибири и религиозная политика государства в 1940-1960-е гг. // Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии. Барнаул, 2015. Т. 2. С. 119-140.
- Дашковский П. К., Дворянчикова Н. С. Правовое положение христианских общин в 1953-1964 гг. // Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии. Барнаул, 2015. Т. 2. С. 75-83.
- Дашковский П. К., Дворянчикова Н. С. Государственное регулирование деятельности христианских общин во второй половине 1960-х - середине 1970-х гг. // Этнорелигиозные процессы в трансграничном пространстве Западной Сибири, Казахстана и Монголии в контексте государственной политики в XX - начале XXI в. Барнаул, 2019. С. 165-172.
- Дашковский П. К., Зиберт Н. П. Государственное регулирование деятельности христианских общин во второй половине 1960-х - середине 1970-х гг. // Государственно-конфессиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 - середине 1960-х гг. Барнаул, 2020. С. 76-96.
- Егоров Д. Е. Антирелигиозная политика советского государства в середине 50-х - 60-х годов XX века // Инновации и перспективы современной науки. Исторические, социо-гуманитарные и философские науки. Астрахань, 2018. С. 40-43.
- Жеребятьева Е. Е. Правовое положение протестантских организаций и атеистическая работа в Алтайском крае (1945-1980-е гг.) // Изв. АлтГУ. 2009. № 4-1 (64). С. 79-82.
- Жеребятьева Е. Е. Государственно-конфессиональные отношения в Алтайском крае в 1945-1990 гг.: Дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2012. 242 с.
- История Евангельских христиан-баптистов в СССР. М.: Изд. Всесоюз. совета евангельских христиан-баптистов, 1989. 622 с.
- Клюева В. П. Религиозная активность населения Тюменской области (1940-1960-е гг.) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2009. № 9. С. 95-101.
- Клюева В. П. Религиозная жизнь в Тюменской области в конце 1950 - середине 1960-х гг.: по материалам периодической печати // Вестник Ишим. гос. пед. ин-та им. П. П. Ершова. 2012. № 2 (2). С. 66-72.
- Клюева В. П. «В настоящее время религия переживает серьезный кризис»: реакция советских верующих на антирелигиозную пропаганду // Вестник археологии, антропологиии этнографии. 2015. № 4 (31). С. 143-150.
- Конев Е. В. Адвентисты седьмого дня Западной Сибири в 40-60-е гг. ХХ века // Манускрипт. 2020. Т. 13, № 6. С. 20-25.
- Костылев П. Н., Антонов К. М., Воронцова Е. В. «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии в России XX - начала XXI в. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. 263 с.
- Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2003. 28 с.
- Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2009. 356 с.
- Никольская Т. К. Возрождение или кризис? Вызовы «перестройки» в конфессиях русского протестантизма // Народы и религии Евразии. 2021. Т. 26, № 2. С. 121-131.
- Одинцов М. И. Живущие надеждой. Церковь христиан-адвентистов седьмого дня в России. 1886-1991 гг. М.: Полит. энцикл., 2020. 575 с.
- Пибаев И. А. Конституционно-правовой статус светского государства в России и Италии. М.: Проспект, 2021. 224 с.
- Протестантизм в Тюменском крае: история и современность / Под ред. И. В. Боброва. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 222 с.
- Савин А. И. Меннониты Сибири в 1940-1980-е годы: религиозные диссиденты. Документы и материалы. Новосибирск: Посох, 2015. 559 с.
- Савин А. И. Библия в Советском Союзе: к истории ввоза из-за границы, издания и распространения // Исторический курьер. 2020. № 2 (10). С. 33-50.
- Савин А. И., Дённингхаус В. Массовые религиозные мероприятия немцев Сибири как проявление «своенравного упрямства» (1960-1980-е годы) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 8: История. С. 114-126.
- Савин А. И., Смирнова Т. Б. Немцы Сибири // Российские немцы. М., 2021. С. 231-245.
- Серова Е. А. К вопросу об истории общин Евангельских христиан-баптистов Кемеровской области в 1940-1960-е гг. // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 5 (30). С. 277-280.
- Серова Е. А. Общины Евангельских христиан-баптистов Кемеровской области в 1960-е - первой половине 1980-х гг. // Этнорелигиозные процессы в трансграничном пространстве Западной Сибири, Казахстана и Монголии в контексте государственной политики в XX - начале XXI в. Барнаул, 2019. С. 147-165.
- Сосковец Л. И. Религиозные конфессии Западной Сибири в 40-60-е гг. ХХ в. Томск: Изд-во ТГУ, 2003. 348 с.
- Тюлюлюкин Е. Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX - XX в.). Оренбург: Пресса, 2006. 194 с.
- Черказьянова И. В. Проблема немецкого образования в Сибири в 1940-1990-е гг. // История и этнография немцев в Сибири. Омск, 2009. С. 513-522.
- Шкаровский М. В. Русская православная церковь в XX веке // Страницы: богословие, культура, образование. 2010. Т. 14, № 1. С. 50-75.
- Ярыгин Н. Н. Евангельское движение в России. Калининград: Изд-во КГТУ, 2015. 141 с.