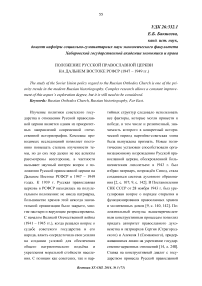Положение Русской православной церкви на Дальнем Востоке РСФСР (1947 - 1949 гг.)
Автор: Бакшеева Е.Б.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Государство и общество
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
Изучение политики Советского Союза в отношении Русской Православной Церкви является одним из приоритетных направлений современной российской историографии. Комплексные исследования позволяют постоянно совершенствовать степень исследования этого аспекта, но его все же необходимо учитывать.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319846
IDR: 14319846
Текст научной статьи Положение Русской православной церкви на Дальнем Востоке РСФСР (1947 - 1949 гг.)
Изучение политики советского государства в отношении Русской православной церкви является одним из приоритетных направлений современной отечественной историографии. Комплекс проводимых исследований позволяет постоянно повышать степень изученности темы, но до сих пор далеко не все аспекты рассмотрены всесторонне, в частности вызывает научный интерес вопрос о положении Русской православной церкви на Дальнем Востоке РСФСР в 1947 – 1949 годах. К 1939 г. Русская православная церковь в РСФСР находилась на полулегальном положении: не имела патриарха, большинство храмов этой некогда значительной организации было закрыто, многие пастыри и верующие репрессированы. С началом Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.), когда решался вопрос о судьбе советского государства и его народа, власть сосредоточила свои усилия на создании условий для обеспечения общего патриотического подъёма и укрепления моральной стойкости населения. С позиции как советских, так и пар- тийных структур следовало использовать все факторы, которые могли привести к победе, в том числе и религиозный, значимость которого в конкретный исторический период партийно-советская элита была вынуждена признать. Новые политические установки способствовали организационному возрождению Русской православной церкви, обескровленной большевистским лихолетьем: в 1943 г. был избран патриарх, возрождён Синод, стала создаваться система духовного образования [2, с. 107; 9, с. 142]. В Постановлении СНК СССР от 28 ноября 1943 г. был урегулирован вопрос о порядке открытия и функционирования православных храмов и молитвенных домов [9, с. 140, 142]. Положительный импульс вышеперечисленным конструктивным процессам позволил придать авторитет православного духовенства и патриархов Сергия (Страгород-ского) и Алексия I (Симанского), придерживавшихся линии на укрепление государственно-церковных отношений [14, л. 248]. Ставка на конструктивный диалог с государством принесла Русской православной церкви свои плоды. За 1944 – 1946 гг. Правительство СССР дало разрешение на открытие 1085 культовых зданий, в том числе в 1944 г. – 207, в 1945 г. – 509, в 1946 г. – 369 [29, л. 8].
На Дальнем Востоке РСФСР, где к началу военных событий не осталось официально действовавших зарегистрированных церквей и религиозных объединений, были организованы: в 1943 г. Александро-Невская церковь, в 1945 г. Христорождественская церковь (г. Хабаровск) [5, с. 213], в 1944 г. свято-Свято-Никольская церковь (г. Владивосток) и Успенская церковь (станция Лазо), в 1945 г. молитвенный дом в с. Спасское [7, с. 41], в 1946 г. Рождество-Богородицкий молитвенный дом в г. Су-чан, Свято-Покровская церковь в г. Ворошилове Приморского края [12, л. 10, 21].
К 1 января 1947 г. на дальневосточной земле официально действовало семь православных объединений. Как и на Дальнем Востоке, от 3 до 9 церквей было открыто в Сибири, некоторых областях Урала и Поволжья. По сравнению с центральными районами страны (а в Московской области в 1946 г. насчитывалось 209 действовавших зданий культа, Ярославской – 153, Костромской – 105, Рязанской – 77) религиозная жизнь здесь носила очаговый характер [33, л. 63, 64].
Однако с 1947 г. в государственноцерковных отношениях стали появляться новые тенденции, созвучные политике воинствующего безбожия. Смене курса способствовало ослабление внешнеполитического значения Русской православной церкви в условиях нараставшей глобальной конфронтации Запада и Востока [4, с. 332]. Кроме того, всё большее недовольство власти вызывал рост влияния Русской православной церкви на советских граждан, проявлявшийся в увеличении количества крещений детей, участии коммунистов и комсомольцев в религиозных обрядах.
Важным шагом по ограничению влияния и роста авторитета православной церкви явилось запрещение её благотворительной и патронажной деятельности. В условиях Великой Отечественной войны и первый послевоенный год, когда скудные государственные ресурсы в первую очередь направлялись на восстановление экономики и укрепление военного потенциала, политическое руководство страны не смогло отказаться от финансовой поддержки Церкви. Однако в начале января 1947 г. сбор средств для наиболее незащищённых слоёв общества бы запрещён.
Данная тенденция сказалась и на открытии новых зданий культа. В 1947 г. Правительство СССР дало разрешение на деятельность 185 церквей и молитвенных домов [28, л. 8], в том числе СвятоБлаговещенской церкви (г. Благовещенск) и Свято-Никольской церкви (г. Свободный) Амурской области [24, л. 78, 83]. В 1947 г. в церквях Хабаровского края и Амурской области было окрещено 2 450 человек, [16, л. 31], Приморского – около 2 500 человек, в основном крестили детей в возрасте от 8 до 14 лет [13, л. 218], что свидетельствовало о потребности населения в православной вере. Следует отметить, что многочисленные ходатайства, поступавшие от верующих из других дальневосточных городов и сёл, удовлетворены не были, так как руководство краевых и областных исполнительных комитетов не желало способствовать возрождению культовой жизни на своей территории. Данная тенденция была общесоюзной. Даже в условиях Великой Отечественной войны в 1944 – 1945 гг. представителями власти было удовлетворено только 10 % всех поступивших ходатайств. На ослабление позиций Церкви было направлено и секретное постановление ЦК ВКП (б) «О мерах по усилению антирелигиозной пропаганды», вышедшее в сентябре 1948 г., в котором отмечалось, что «изменение отношения духовенства к советскому государству не может изменить реакционного существа религиозной идеологии» [4, с. 332]. Возобновились преследования духовных лиц, «охвативших население религиозным враждебным влиянием». В 1948 г. были арестованы митрополит Нестор (Анисимов), архиепископ Оренбургский Мануил (Лемешевский), в 1949 г. – инспектор Московской духовной академии Вениамин (Милов) [8, с. 136].
С августа 1948 г. на режимных территориях, к которым относились Хабаровский и Приморский края, Амурская область духовенству, имевшему паспортные ограничения (судимость) [получить прописку можно было только в порядке исключения, то есть с согласия органов МГБ или МВД], запрещались прописка и проживание [15, л. 42, 43]. В письме от 23 ноября 1948 г. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР потребовал «до особых указаний лиц, подвергавшихся судимости, не регистрировать» [27, л. 3]. Представители власти, таким образом, получили веские ос- нования для закрытия церквей в связи с отсутствием настоятеля. Другим ограничительным мероприятием явилась перерегистрация членов церковных советов и ревизионных комиссий, начатая с сентября 1948 г. [17, л. 25]. Его цель заключалась в том, чтобы проанализировать состав исполнительных органов и выявить лиц, «не внушавших доверия» [31, л. 15]. Не все участники перерегистрации были готовы сообщать сведения о себе, например, о судимости, нахождении на временно оккупированных территориях и в плену, что позволяло проводить «отсев» лиц уже в ходе мероприятия.
Так, отказались от заполнения анкет старосты церквей в г. Свободном и г. Хабаровске, сославшись на то, что «работать больше не намерены» [19, л. 36]. Кроме того, по итогам анкетирования, подведённым к 1 октября 1948 г., Приморский крайисполком отказал в перерегистрации двум членам церковного актива молитвенного дома в г. Сучан в связи с «возражением органов Министерства госбезопасности СССР» [18, л. 81].
Одновременно был проведён учёт нелегальных молитвенных домов и недействовавших церквей [17, л. 53]. Весь комплекс мероприятий убедил духовенство и часть верующих в том, что началась подготовка к новому массовому закрытию церквей. Уверенность в этом окрепла после того, как Правительство СССР 28 октября 1948 г. отменило своё распоряжение от 10 августа 1948 г. № 11365-рс об открытии 28 новых храмов, в том числе на Сахалине и в Амурской области. Официально названной причиной явилось то, что документ был подписан не председа- телем Совмина И.В. Сталиным, а его заместителем К.Е. Ворошиловым [3, с. 32]. Последнее исполненное распоряжение Правительства об открытии 27 культовых зданий [28, л. 8], в том числе СвятоТроицкого молитвенного дома в пос. Высокое г. Куйбышевка-Восточная Амурской области, было принято ещё в марте 1948 г. [22, л. 58].
Несмотря на отмену августовского решения, в Амурской области был открыт Свято-Петропавловский молитвенный дом (пос. Магдагачи) [25, л. 24], а вот на Сахалин Русская православная церковь не была допущена [7, с. 75]. К 1 января 1949 г. в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области (юг Дальнего Востока) числилось всего 11 храмов.
Вскоре для формирования общественного мнения, получения поддержки идеологического актива и советских граждан была организована антирелигиозная пропагандистская кампания, вошедшая в историю как Саратовская купель, когда 19 января 1949 г., в праздник Крещения, после совершения обряда погружения в Иордань часть верующих устроила купание в ледяной воде. Событие было сфотографировано и явилось предметом разбирательства на Секретариате ЦК ВКП (б) в феврале 1949 года. В том же месяце в газете «Правда» появился фельетон «Саратовская купель», где купание расценивалось как пример «церковного мракобесия» [1, с. 414, 415]. Произошедшее в Саратове дало основание требовать от Московской патриархии «суммы мероприятий, ограничивавших деятельность Церкви храмом и приходом». Ещё в августе 1948 г. по рекомендации Совета Синод принял решение о запрещении духовных концертов в храмах вне богослужений, разъездов архиереев в период сельских работ, молебствий на полях, крестных ходов из села в село [1, с. 408]. А после февраля 1949 г. Московская патриархия была вынуждена запретить службы вне церковных зданий, крёстные ходы (кроме пасхальных), потребовала от архиереев ограничить разъезды духовенства по населённым пунктам для отправления религиозных треб [32, л. 168].
В свете саратовских событий в марте 1949 г. началась антирелигиозная работа и на Дальнем Востоке. Основанием для этого явился выезд в январе – феврале 1949 г. священника, окрестившего в пос. Лондоко 80 детей [20, л. 28], на станции Унгун – около 200 детей [30, л. 69, 70], в пос. Вяземский – более 120 детей, в пос. Победа г. Комсомольска-на-Амуре – ок. 100 детей [26, л. 19]. Всех граждан, крестивших детей, подвергли политикоадминистративному давлению, а члены партии, в первую очередь «допустившие крещение детей», были исключены из рядов ВКП (б) или получили строгие партвзыскания. Особый накал приобрели события в пос. Магдагачи Амурской области, где началась кампания против верующих и духовенства Петропавловского молитвенного дома с применением методов воинствующего безбожия. Так, представители районной власти запретили прихожанам посещение церкви, угрожая им увольнением с работы, а членов церковного совета «с большим зажимом и запугиванием» заставляли «бросать свои полномочия, дабы не было впоследствии плохо». В антирелигиозную кампанию был вовлечён и директор школы, который обещал отчислять детей, посещавших церковь или носивших крестики. Самым яростным нападкам, насмешкам и издевательствам со стороны властей подвергал- ся настоятель молитвенного дома священник К. Сова [25, л. 33 – 35].
Представители власти на местах, чувствуя поддержку государства, стали выступать с инициативой закрытия официально действовавших церквей. В 1949 г. горисполком запретил деятельность общины в г. Сучан Приморского края, сославшись на то, что под зданием проходила галерея шахты, «угрожавшая обвалом». Разрешения на строительство нового помещения «на безопасном месте» верующие смогли добиться только в 1952 г. [11, л. 12 – 14, 16]. Следующей под удар попала церковь на станции Лазо, оставшаяся в 1950 г. без священника. К этому времени набрала силу кампания по слому церковных зданий. Следует отметить, что председатель Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР Г.Г. Карпов неоднократно призывал воздерживаться от вынесения решений, вызывавших «острые реагирования верующих». В августе 1948 г. генеральный прокурор СССР дал указание прокурорам краёв и областей опротестовывать распоряжения местной власти о переоборудовании, сломе или разборке церковных зданий, вынесенных с нарушением
Постановления СНК СССР от 1 декабря 1944 г. № 1643-486-с «О православных церквах и молитвенных домах» [15, л. 44]. Остановить процесс не удавалось. В 1949 г. были разобраны бывшие церковные здания в с. Дормидонтовке Хабаровского края, с. Новобельмановке Приморского края [26, л. 24; 10, л. 106]. Представители местных партийных и советских органов, таким образом, принимали меры по уменьшению количества свободных, но не действовавших молитвенных домов. Результатом этих и других антирелигиозных мер явились многочисленные жалобы верующих на грубость и притеснение со стороны представителей советских и партийных органов главе государства И.В. Сталину, в Верховный Совет РСФСР, Совет по делам Русской православной церкви и другие инстанции.
Волна наступления на Русскую православную церковь была приостановлена со второй половины 1949 г., так как её авторитет вновь потребовался для поддержания государственных инициатив на международной арене [1, с. 418, 427]. Послабление не стало основанием для кардинального пересмотра отношения правительства, местных советских и партийных органов к вопросу об открытии новых храмов. Напротив, на территории РСФСР закрытие церквей и молитвенных домов продолжилось. В 1952 г. их количество уменьшилось на 26 единиц, в 1953 г. – на 15 [23, л. 1]. К 1 января 1954 г. на территории РСФСР было учтено 2974 зданий культа [21, л. 1]. Ослаблению позиций Церкви в РСФСР и её влияния на население способствовал комплекс антирелигиозных мероприятий, проведённых советской властью в 1947 – 1949 годах.
Подводя итог, отметим, что в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы у верующих появилась надежда на дальнейшее конструктивное развитие государственноцерковных отношений. Однако заметный рост авторитета Русской православной церкви, активизация деятельности приходских общин и духовенства, в том числе на Дальнем Востоке РСФСР, приводившая к распространению «реакционной религиозной идеологии» заставили Правительство в 1947 – 1949 гг. принять решение об ужесточении церковной политики. Представители местных советских и партийных органов, получившие право на всесторонний контроль за деятельностью культовых зданий, поддержали этот курс.
Политика сдерживания религиозной активности, применения непопулярных у населения антирелигиозных мер вызвала острые реагирования верующих и не позволила допустить широкомасштабных антирелигиозных акций, что привело в 1950 - 1953 гг., даже несмотря на количественные потери Церкви, к стабилизации её положения.
Список литературы Положение Русской православной церкви на Дальнем Востоке РСФСР (1947 - 1949 гг.)
- Беглов, А. Л. Русская православная церковь в ХХ веке: к 1020-летию крещения Руси/А. Л. Беглов, О. Ю. Васильева, А. В. Журавский. -М.: Сретенский монастырь, 2008.
- Васильева, О. Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943 -1948 гг./О. Ю. Васильева. -М., 1999.
- Гераськин, Ю. В. Взаимоотношения Русской православной церкви, общества и власти в конце 1930-х -1991 гг. (на материалах областей центральной России): автореф. дис. … д-ра ист. наук/Ю. В. Гераськин. -М., 2009.
- Логинов, А. В. Власть и вера: государство и религиозные институты в истории и современности/А. В. Логинов. -М.: Большая Российская энциклопедия, 2005.
- Религия и власть на Дальнем Востоке России: сб. документов Государственного архива Хабаровского края/Отв. сост. Е. Б. Бакшеева. -Хабаровск, 2001.
- Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.: сб. документов. -М., 2009.
- Сердюк, М. Б. Религиозная жизнь советского Дальнего Востока (1941 -1954)/М. Б. Сердюк, С. М. Дударёнок. -Владивосток, 2009.
- Титков, Е. П. Отношения Русской православной церкви и государства в ХХ веке: курс лекций/Е. П. Титков, В. А. Кабешев, О. В. Ефимов, Н. В. Харева, С. А. Зотов. -Арзамас: АГПИ, 2008.
- Чумаченко, Т. А. Правовая база государственно-церковных отношений в 1940-е -первой половине 1960-х годов: содержание, практика применения, эволюция/Т. А. Чумаченко//Вестник Челябинского гос. ун-та. Вып. 24. 2008. № 15. (История).
- Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. Р-26. Оп. 22. Д. 46.
- ГАПК. Ф. Р-1578. Оп. 1. Д. 14.
- ГАПК. Ф. Р-1578. Оп. 1. Д. 21.
- ГАПК. Ф. П-68. Оп. 34. Д. 484.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 3.
- ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 148.
- ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 169.
- ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 288.
- ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 312.
- ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 314.
- ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 474.
- ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 869.
- ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 969.
- ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 103.
- Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 4.
- ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 8.
- ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 9.
- ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 2. Д. 3.
- Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 16. Д. 669.
- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 132. Д. 6.
- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 109.
- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 111.
- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 285.
- РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 498.