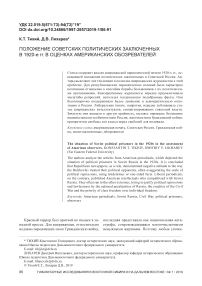Положение советских политических заключенных в 1920-е гг. В оценках американских обозревателей
Автор: Тихий Константин Теодорович, Лихарев Дмитрий Витальевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Перекрестки североамериканской истории
Статья в выпуске: 1 (47), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит анализ американской периодической печати 1920-х гг., освещавшей положение политических заключенных в Советской России. Авторы выделяют две тенденции в подходах американских журналистов к этой проблеме. Для республиканских периодических изданий было характерно негативное отношение к способам борьбы большевиков с их политическими противниками. Консервативные журналисты нередко преувеличивали масштабы репрессий, используя тенденциозно подобранные факты. Они безоговорочно поддерживали Белое движение и демократическую оппозицию в России. Либеральная печать, напротив, нередко публиковала статьи американских интеллектуалов, симпатизировавших советской власти. Зачастую они впадали в другую крайность, пытаясь оправдать беззаконие национальными особенностями России, жестокостями Гражданской войны, приоритетом свободы для класса перед свободой для индивида.
Американская печать, советская Россия, гражданская война, политзаключенные, обозреватели
Короткий адрес: https://sciup.org/170175892
IDR: 170175892 | УДК: 32.019.5(571:73):94(73)”19” | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-1/86-91
Текст научной статьи Положение советских политических заключенных в 1920-е гг. В оценках американских обозревателей
Красный террор был притчей во языцех в западной прессе. Для американцев, относительно недавно переживших свою Гражданскую войну, последняя представала как национальная катастрофа, сопровождавшаяся многочисленными ненужными жертвами. Поэтому любые упоми- нания о количестве жертв, особенно среди мирного населения в России, вызывало возмущение действиями той или иной стороны, будь то еврейский погром, устроенный деникинцами, или расстрел представителей старой интеллигенции чекистами.
Но следует отметить, что подача американской прессой информации такого рода изначально была предвзятой. Так, например, осенью 1922 г., по случаю реорганизации ВЧК в ГПУ, журнал «The Atlantic Monthly» привел отчет по «красному террору», опубликованный ЧК в советской прессе. Из него следовало, что после крестьянства (815 тыс. чел.), больше всех за годы Гражданской войны погибло представителей интеллигенции и так называемого среднего класса (355 350 чел.). Всего же погибло приблизительно 1 572 700 чел., что было выше потерь Франции в годы Первой мировой войны. Якобинский террор с 17 тыс. казненных тем более не шел ни в какое сравнение. Пресса справедливо отмечала, что молох революции перемолол десятки тысяч невинных жертв. Но ответственность за это перекладывалась только на большевиков. Доходило до явного абсурда. Так, например, утверждалось, что все врачи, погибшие в годы Гражданской войны в России, были казнены чекистами. Единственная вина их заключалась в том, что они выдавали людям фиктивные справки, спасающие от призыва в армию [8, p. 432]. Сведения подобного рода, снабженные соответствующими комментариями, шокировали общественность США. Хотя непредвзятое отношение к информации требовало параллельной публикации цифр потерь и противоположной стороны, а они, безусловно, фигурировали в советской периодике.
Особенно болезненной была реакция американского общества на преследования политических противников. Летом 1922 г. в США поступили первые сообщения о начале судебных процессах по делу правых эсеров, которые сразу привлекли внимание американской общественности. Отчасти этому способствовала гласность судебных заседаний, достигнутая на основе соглашения трех Интернационалов 2–3 апреля 1922 г. в Берлине на совместной конференции. Несмотря на заверения Н. Бухарина и К. Радека от имени Коминтерна о неприменении к подсудимым смертной казни, двенадцать человек трибунал приговорил к расстрелу с отсрочкой исполнения. Фактически они находились на положении политических заложников, чья жизнь ставилась в зависимость от того, прекратит ли партия эсеров «подпольную заговорщическую, террористическую, военно-шпионскую, повстанческую работу» против Советской власти.
Тяжесть приговора не соответствовала общей обстановке в Стране Советов: закончилась Гражданская война, почти все войска интервентов были выведены с территории России. Тем более, что большинство обвиняемых подпадало под амнистию 1919 г. Поэтому консервативно настроенные американцы рассматривали вердикт трибунала как продолжение террористической практики большевиков, характерной для периода Гражданской войны.
Более разнообразным был спектр представлений представителей либеральных интеллектуальных кругов. Лишь немногие из них в то время были уверены в законности судебного процесса, но они с пониманием отнеслись к решению суда [9, p. 24–26, 28]. Часть обозревателей находилась под впечатлением советского «эксперимента» в системе ускоренного судопроизводства. Другие отмечали, что западные стандарты и методы в сфере укрепления правопорядка не всегда можно прямо переносить на Россию. Так, например, американский журналист Э. Халлингер, приводил данные, согласно которым в 1919 г. за 2–3 месяца в Москве было расстреляно 300 грабителей. Этот же метод использовался зимой 1921–1922 гг., когда за одну неделю было казнено 25 бандитов. В итоге, отмечал журналист, спустя несколько недель улицы Москвы стали спокойными [5, p. 236–237].
В Соединенных Штатах в период бурных «гангстерских» 1920-х гг. шли споры о том, какими должны быть законы: основанными на римском (писанном) праве или на англо-саксонском праве судебных прецедентов. На этот вопрос частично ответила Страна Советов, считал Халлингер. С 1921 по 1923 гг. российские суды работали без письменных законов, по общим декретам Советского правительства. После введения НЭПа появилась система письменных законов. Но советская судебная система была еще далека от совершенства, считал журналист. Не было, например, открытых судов над политзаключенными, хотя по закону они могли быть истребованы. Правда, по сравнению с системой трибуналов в период революции и Гражданской войны прогресс был несомненным [5, p. 238].
Трибуналы, свидетельствовал обозреватель «The Nation» А. Эпштейн, первоначально служили в большей степени инструментом карающих органов, а не институтом правосудия.
Такова была обстановка. Поэтому А. Эпштейн полагал, что по процессам по делу священников и эсеров нельзя судить о судебной системе Советского государства в целом. Это было равноценно тому, чтобы оценивать американскую систему судопроизводства, основываясь на процессах против коммунистов, членов организации ИРМ и других радикалов [4, p. 315].
Упразднение ВЧК рассматривалось в Соединенных Штатах как обнадеживающий факт, несмотря на то, что организация лишь сменила название. Казалось, что всесилие политической полиции будет существенно ограничено, а ее работа будет поставлена под контроль. На возросшую гуманность трибуналов указывало уменьшение количества смертных приговоров [4, p. 318]. С другой стороны, большая часть дел передавалась народным судам. Последние, по мнению Эпштейна, проявляли необычное великодушие по отношению к большинству преступников, свидетельством чего были частые условные приговоры в отношении лиц, совершивших преступление впервые. Правда, автор упустил из виду то, что эта практика не касалась политических преступлений.
Постепенно на протяжении 1920-х гг. выработалась определенная позиция американских интеллектуалов в отношении проблемы политзаключенных в Советском Союзе. Движение к этому началось в 1923 г., когда американскому журналисту И.Д. Левину во время пребывания в Советском Союзе удалось получить некоторые сведения о казнях и истязаниях в Соловецком концлагере. Он вывез в Соединенные Штаты письма 323 политзаключенных и опубликовал их. Предварительно рукопись этой книги была разослана духовным лидерам западного мира с просьбой сделать предисловие. Большинство из них отказались. Среди них были такие известные деятели культуры, как Р. Роллан, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Шоу и др. Одни обвинили автора в антикоммунизме, другие усомнились в подлинности документов. Известный американский писатель Э. Синклер заявил: «Я признаю право государства охранять себя от тех, кто действительно совершает насилие против него… Я надеюсь, что правительство рабочей России утвердит уровень гуманности более высокий, чем то капиталистическое государство, в котором я живу» (цит. по: [1, с. 148]).
Согласно другим источникам, известные западные интеллектуалы все-таки опубликовали письма протеста [12]. В заявлении Р. Болдуина, председателя Международного комитета политзаключенных, говорилось, что группа американских либералов, включая Ю. Дебб-са, обратилась во ВЦИК СССР с ходатайством о прекращении преследования социалистов в России [12, p. 24].
Многочисленные свидетельства бывших узников лагерей о реалиях тюремной системы побудили Советское правительство организовать специальную поездку представителей зарубежной общественности для ознакомления с пенитенциарной системой. 15 февраля 1925 г. комиссия, в которую входило много иностранных журналистов, посетила тюрьму на Лубянке. Условия содержания заключенных в ней казались вполне удовлетворительными. Но зарубежные представители сознавали, что эта тюрьма в своем роде являлась элитарной, а содержавшиеся в ней 80 человек представляли собой «сливки» всех противников советской власти. Общее количество политзаключенных, по некоторым зарубежным данным, составляло 25 тысяч человек, и условия их содержания были далеки от идеальных. Так, например, в Соловках 300 политзаключенных содержались вместе с 3 тыс. уголовников, что противоречило сложившейся на Западе системе [3, p. 11].
Результаты поездки широко освещались в западной прессе. Отчеты о посещении тюрьмы на Лубянке были в основном положительными. Даже в консервативной газете «The New York Times» сообщалось о хорошем режиме, который установлен для заключенных на Лубянке. Газета отмечала, что в остальных тюрьмах и на Соловках по-прежнему действуют более строгие правила, но «нельзя не прийти к заключению, что Советское правительство стало, наконец, прислушиваться к протестам мирового сообщества, начав преодолевать жестокость тюремного режима, которая существовала при царе...» [11].
Другим подтверждением наметившейся апологетической тенденции могли служить часто проводившиеся амнистии. Комментируя амнистию бывшим белогвардейцам, «Chicago Daily Tribune» писала: «Это самая радикальная уступка русскому народу со времени революции. Она охватывает десятки тысяч людей, которые были связаны с контрреволюционным движением до 1921 г.» [3, p. 11].
Положительные отчеты иностранных корреспондентов об осмотре тюрьмы на Лубянке подверглись резкой критике на митинге протеста против преследования людей из-за политических взглядов, проходившем в здании мэрии
Нью-Йорка. Митинг как будто раскололся на две части. Те, кто утверждал о полной свободе слова и мнений в России, были объявлены лжецами. Митинг практически был сорван. Впоследствии «The New York Times» писала, что «воинствующие симпатизеры Советов свели на нет все попытки реализовать эту свободу на Сорок третьей улице» только для того, чтобы доказать, что в России допускается свобода слова. «Из опыта митинга в мэрии можно представить, – продолжала газета, – насколько свободно чувствует себя простой московский рабочий, участвуя в открытом голосовании в присутствии председательствующего комиссара с вооруженной охраной» [13, p. 22].
Либеральные еженедельники заняли иную позицию. Свою позицию редакции журналов сформулировали так: «Если либералы сконцентрируют свои усилия на этих непрекращающих-ся обвинениях, но не будут в целом осуждать русское правительство и его руководство, то такое давление может ускорить процесс либерализации, некоторые признаки которой (в России. – прим. авт. ) уже очевидны» [7, p. 232].
Сообщения некоторых обозревателей об условиях содержания политических узников вызывали множество критических замечаний со стороны очевидцев. Подвергалось сомнению утверждение редакции «The Nation» о том, что в Соловках насчитывалось 350 политзаключенных. На самом деле среди 3 тыс. заключенных были и другие политзаключенные, так как к этой категории Советское правительство официально относило только членов социал-демократической партии и эсеров, хотя были еще анархисты, священники и др. Неправдой была и информация о том, что прекратилась практика ссылки русских за посещение иностранных посольств «по общественному делу», отмечал американских журналист Ф. МакКензи [6, p. 293–294].
Ответ корреспондента журнала «Nation» в России Л. Фишера был опубликован лишь два месяца спустя. Все это время он искал новые факты для подтверждения своей мысли о постепенной либерализации советской тюремной системы. Частично признавая свои ошибки, он писал, что в тюрьмах к священникам часто относятся намного лучше, чем к политзаключенным. Архиепископу Цыпляку дали 10 лет тюремного заключения, писал он, а просидел священник лишь один год. Кроме того, никто из оппонентов Л. Фишера не упоминал об амнистиях. Не верил журналист и в возможность по- сещений отдельными советскими гражданами иностранных посольств по «общественному» делу [10, p. 573].
Спор между двумя журналистами, представлявшими два противоположных направления в американском общественном мнении, затянулся и вышел далеко за пределы издательских рамок. После окончания работы в Москве, МакКензи возвратился в США, где продолжил работу на газету «Chicago Daily News». Он выступил с серией лекций о положении в Советском Союзе. Особое внимание он уделял критике методов преследования Советским правительством контрреволюционеров и других политических заключенных. Его публичные лекции и многочисленные интервью в американской прессе основывались преимущественно на реальных фактах. Тем не менее, не обошлось без конфузов. В Хьюстоне (штат Техас) редактор местной газеты «Chronicle» пригласил журналиста на экскурсию в местную тюрьму. Поскольку условия содержания заключенных в этой тюрьме уже неоднократно критиковались, ожидалось, что МакКензи «узнает» в ней советскую исправительную систему. Но общее впечатление «эксперта» от знакомства с местной пенитенциарной системой было настолько негативным, что его отчет дальше «Chronicle» не пошел (Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 56-б. Оп. 26. Д. 13. Л. 62).
Известный критик политических преследований в Советском Союзе Р. Болдуин в 1927 г. специально посетил страну для изучения методов политического контроля и оценки степени свободы граждан. Болдуин сознавал, что едет в страну в период «военной тревоги» и ожиданий войны после разрыва отношений с Великобританией. Но, несмотря на установление жесткого режима, Болдуину удалось посетить более десятка тюрем, свободно поговорить и с официальными лицами, и с заключенными оппонентами режима.
Позже он отмечал, что иностранцу побеседовать с официальным лицом легче в России, чем где-либо в Европе. В этом отношении Р. Болдуин явно преувеличивал. Власти сознавали важность создания у заокеанского гостя положительных впечатлений. Поэтому ему был оказан особый прием. Тем не менее, американец вынужден был констатировать, что на некоторые вопросы собеседники отказывались отвечать. Это касалось определения количества заключенных и ссыльных, методов казней, количества сотрудников спецслужб и т. п. Но в итоге
Болдуин сделал важный для себя вывод: «Хотя … свободы политических убеждений сегодня в России нет, из этого не следует, что в России нет важных свобод» [2, p. 505]. Утвердившиеся в Советском Союзе тенденции, писал он, не совпадают с традиционными западными концепциями индивидуальной свободы, исторически обоснованными появлением частнособственнического производства. В политической структуре Советского государства действуют групповые и классовые свободы. Социальная значимость «групповых и классовых свобод» Болдуину представлялась важнее, чем политические ограничения [2, p. 505].
На представителей интеллектуальной среды США производили глубокое впечатление некоторые новшества в советской пенологии, ранее не имевшие прецедентов на Западе. Р. Болдуин, например, рассказывал читателям «The Nation» о двух «толстовцах», которые за отказ служить в армии были посажены в тюрьму. Но администрация тюрьмы посчитала возможным отпустить их на встречу с единоверцами, взяв с них обещание вернуться через два-три дня. «Увольнительные из тюрьмы, – писал Болдуин, – являются одной из характерных черт новой пенологии в России» [2, p. 507].
Хвалебные отзывы о советской системе пенологии не снимали остроты проблемы политзаключенных. Либеральная общественность по-прежнему с негодованием воспринимала сообщения о политических преследованиях в СССР. Однако, начиная с середины 1920-х гг., в связи с началом борьбы с троцкизмом, вопрос о преследованиях традиционных оппонентов Советской власти отошел на задний план. Прежних политических противников как субъектов репрессий начали во многом искусственно реанимировать лишь во время массовых чисток со второй половины 1930-х гг. в связи с убийством С.М. Кирова, и реакция на процессы была уже не столь положительной.
Таким образом, в освещении проблем политзаключенных в Советской России в американской прессе 1920-х гг. отчетливо прослеживаются две тенденции. Республиканская пресса и журналисты правого толка продемонстрировали весьма критический настрой. Описывая политические репрессии большевиков, они нередко использовали тенденциозно подобранные факты, безоговорочно становились на сторону их политических противников. Для интеллектуалов леволиберальной ориентации идеи социального эксперимента большевиков оказались необычайно привлекательны. Февральская революция, завершившаяся свержением самодержавия, их не удивила: отсталая Россия пыталась догнать Запад, заимствуя его политическую модель. В октябре, с захватом власти большевиками, революция приобретает небывалый характер. Теперь она развертывается уже не под знаменем буржуазии, а под знаменем рабочего класса и учения Маркса о низвержении буржуазии и капитализма. Они искали оправдания репрессивной политике большевиков, уверяя, что к России нельзя подходить с той же шкалой ценностей, по которой оцениваются западные демократии, что свобода для класса важнее, чем свобода для индивида. Многие успокаивали себя тем, что политические репрессии носили временный характер, будучи издержками Гражданской войны и борьбы за удержание власти.
Список литературы Положение советских политических заключенных в 1920-е гг. В оценках американских обозревателей
- Шафаревич И.Р. Две дороги - к одному обрыву // Новый мир. 1989. № 7. С. 147-165.
- Baldwin, R.N., 1927. Liberty under the Soviets. The Nation, November 9.
- Chicago Daily Tribune, 1925, February 3.
- Epstein, A., 1922. The judicial system of Russia. The Nation, September 27.
- Hullinger, E.W., 1925. The reforging of Russia. New York.