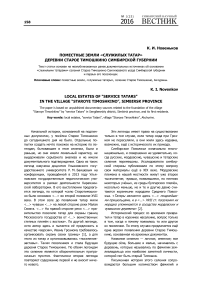Поместные земли "Служилых Татар" Деревни старое Тимошкино Симбирской губернии
Автор: Новеньков Константин Иванович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Конференции, семинары
Статья в выпуске: 1 (23), 2016 года.
Бесплатный доступ
Текст статьи основан на неопубликованных ранее документальных источниках об основании «служилыми татарами» селения Старое Тимошкино Сенгилеевкого уезда Симбирской губернии и первых его поселенцах.
Поместные земли, "служилые татары", селение старое тимошкино, акчурины
Короткий адрес: https://sciup.org/14114302
IDR: 14114302
Текст научной статьи Поместные земли "Служилых Татар" Деревни старое Тимошкино Симбирской губернии
Начальной истории, основанной на подлинных документах, у посёлка Старое Тимошкино до сегодняшнего дня не было. Отдельные попытки создать нечто похожее на историю по легендам, бытовавшим в этом селении, были и раньше, но они имели локальный характер, не выдерживали серьёзного анализа и не имели документального подтверждения. Одна из таких легенд озвучена доцентом Ульяновского государственного университета Р. М. Баишевым на конференции, проведённой в 2013 году Ульяновским государственным педагогическим университетом в рамках деятельности Карамзинской лаборатории. В его выступлении предлагается легенда, по которой «село Старотимошки-но было основано ˂…˃ во второй половине XVII века. В этом селе до появления татар жили ˂…˃ чуваши ˂…˃ на левой стороне реки Малая Свияга. ˂…˃ На правой стороне реки ˂…˃ правительство поселило татар для охраны границ Московского государства от ˂…˃ воинственных степных племён с востока». По другой легенде, хотя автор здесь и пытается её предложить в качестве «версии», Ивану Грозному требовалось организовать охрану своих границ» [1], а для этого из татар и организовывались «поселения-заставы». Таким поселением и стала будущая деревня Старое Тимошкино. По обеим легендам это селение является оборонительным приграничным пунктом. Фактически вторая легенда повторяет содержание первой и не вносит ничего нового.
Эти легенды имеет право на существование только в том случае, если татар сюда при Грозном не переселяли, а они жили здесь издавна, возможно, ещё с исторического их прихода.
Симбирское Поволжье изначально многонационально, и совершенно не удивительно, когда русские, мордовские, чувашские и татарские селения перемешаны. Исследователи симбирской старины публиковали по этому вопросу свои материалы ещё в XIX веке. Мордовские племена в нашей местности живут уже второе тысячелетие, чуваши, появившиеся, по мнению некоторых учёных, из среды булгарских племён, несколько меньше, но и те и другие давно считаются коренными народами Среднего Поволжья. « Татары являются здесь ˂…˃ позднейшими пришельцами, и в ˂…˃ XVII ст. поселения их нередко упоминаются в соседстве мордовских и чувашских деревень » [2].
Исторический процесс со временем превратил и татар в коренное население, вопрос только в том, когда и почему появилось то или другое их поселение. По этому случаю предлагается ещё одна версия появления деревни Старое Тимошкино, основанная на архивных документах.
Название селения — личное, именное; все будущие сёла, большие и малые, начинались с деревень, которые назывались по фамилии землевладельца или наиболее заметной личности, которой мог быть старый Тимошка.
Письменная история этого селения сопровождается большим количеством фамилий и имён, отражённых в архивных документах, впервые использованных в данном исследовании. Только полный список наделённых поместной землёй служилых татар «по новому городу Сызрану» отмечен в них неоднократно.
Князь Жирово-Засекин Василий Фёдорович служил «по Симбирску» в 1686—1689 гг., князь Щербатов Иван Осипович — в 1689—1693 гг. Один из первых документов начинается так: «˂…˃ по нашему Великих Государей указу велено <„> служить Шацкому Умралею мурзе Степанову сыну Мамалаеву по новому городу Сызрáну с прежним его поместным и денежным окладом ˂…˃ и в поместье земли ему, Умралею, отвести со всякими угодьи <.>. Писано на Москве 7198го апреля в 13 день» [3].
Из начальной части документа видно, что мурзе Умралею Мамалаеву приказано служить в новопостроенном городе Сызрáне, за что жало-ван он ещё одной частью ранее определённого земельного поместья. Это подтверждается и тем, что указаны точные границы будущего поместья не только Умралея Мамалаева, но ещё нескольких десятков его сослуживцев. На этой большой территории, означенной указанными границами, располагались многие другие селения, среди которых были и татарские.
Свидетелями при отводе земли были « села Дмитриевского (Безштановка) служилые солдаты ˂…˃ ; деревни Каменного Броду солдатского строю (бывшие служилые. — К. Н.); да деревни Смышляевки служилые солдаты ˂…˃ ; да деревни Канлы (Калды. — К. Н. ) Резеп Мурза Клебер-дяев сын Богданов, да служилые татары Гадбу-лат Синяев, Амет Арсланов <...>» . Упомянутые селения появились по соседству с будущей деревней Старое Тимошкино почти на десять лет раньше (1681—1682 гг.), и основали их бывшие служилые люди по городу Симбирску, получившие здесь поместные земли за строительство Симбирска, полевых и лесных укреплений, идущих от Симбирска на Карсун, а также за ликвидацию разинского казацко-крестьянского выступления и его последствий.
Нельзя не обратить внимание на то, что земля отмерена «подле дач помещиков, служилых татар Булая Иляшева сына Бакшеева <.> и владеют тою землёю служилые татары Акбу-лай Бакшеев с товарищи ˂…˃» [4]. Не исключено, что они служили «по Симбирску». Этот малозаметный на первый взгляд факт имеет немалое значение в том, что указывает на более раннее появление другого татарского поселения под названием Канлы (ставшего Калдой). Местные историки, не имея ничего, кроме легенд, считают Калду татарским поселением, появившимся так же, как и Старое Тимошкино, и в то же время, что исключается содержанием той части документа, которая цитировалась выше. Не имея документальной основы, иногда появляются смутные утверждения о том, что Канлы (Калда) — это некая отделённая часть Староти-мошкинского поселения татар.
Всего земли отмерено под Тимошкинское поселение и пашню 2550 четвертей « в поле, а в дву потому ж», что означает 5100 четвертей, или 7550 десятин. Из них отказано « 100 четвертей Умралею Мурзе Степанову сыну Мамалаеву к старому его поместью, к Шацкому да к Керенскому посту к 135 четвертям, в оклад в 450 четвертей <...>» . В общем поместье отказано ещё «<...> 49 человекам по 50 четьи (четвертей. — К. Н.) человеку» [5]. Все 49 человек служилых татар поименно и пофамильно помещены в список данного документа.
Некоторые « служилые новопостроенного города Сызрана », записанные в городскую де-сятню и получившие грамоты на владение поместных земель, начали закрепляться и становиться помещиками, другие же начали свою землю продавать. По старому Уложению (гл. 16, ст. 43), то есть до запретительного указа 1727 года, «в городах у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у чувашей, и у черемисы, и у вотяков, и у башкирцев боярам, и окольничим, и думным людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и из городов дворянам, и детям боярским, и всяких чинов русских людем поместным, и всякие земли не покупать, и не менять, и в заклад, и с здачею на многие годы, не имать». Ещё одно важное дополнение: «А буде, которые <.> те татарские поместья и ясашные земли имать на государя, да им же от государя быть в опале » [6].
Генерал-майор Нефёд Никитич Кудрявцев, бывший Казанский обер-провиантмейстер, приобрёл, по данным Казанской крепостной палаты от 1741 года 30 мая, всего 538,5 четвертей «от вершины реки Свияги <.> деревни Акшувата <...>». Чтобы справить своё имение, обер-комиссар Нефёд Никитич Кудрявцев подал на это действо прошение, подкреплённое купчими. Краткое изложение: «9 июля 1735 года Казанского уезда Зюрейской дороги деревни Атряс служилый новокрещен Яков Артемьев Распаев продал своё имение, приобретённое у разных мурз и татар» [7]. В купчей значатся все лица, причастные в той или иной мере к проданной земле. Яков Артемьев Резепов купил в деревне Тимошкиной у Кереклетья Сюнбаева 10 четвер- тей, которые ему достались по наследству от отца — «служилого татарина» Сюнбая Юнова; у Искандера Кадырова — 12 четвертей, полученных после деда, «служилого татарина» Танат-бая Крымова; у Алекайки Таитметова — 50 четвертей, ему доставшихся после деда, «служилого татарина» Имая Чюмаева; в том же Симбирском уезде, в деревне Шатыршане, у Мосея мурзы Московаева, сына Карамышева, — 40 четвертей, ему доставшихся после отца, «служилого татарина» Малкова мурзы Кинбакова, у Есака, мурзы Кандракеева, сына Богданова, — 125 четвертей, в деревне Тимошкиной — 33 четверти, которые по наследству достались после отца его, и Симбирского уезда в деревне Шатыршане продали «служилые татары» Кусимет Клевлеев 50 четвертей, доставшихся ему после отца, Клевлея Елмишетова бай мурзы Мамакова 25 четвертей, Кади Уразметьева — 50 четвертей, ему же после отца Уразметея Дасаева Юнусова, да Исмаила Багазитова 50 четвертей, а им после отца их Багазита Акбулаева, Исая Бактемирова, Адальша Кузабердина 50 четвертей, а им — Исаю после Бектемира Аклычева, а дальше после Кудаберды Бикчурина. Всего же 383 четверти. Кроме того, Нефёд Никитич Кудрявцев приобрёл в деревнях Шатыршане и Старой Чекур-ской у «служилого татарина» Укамлета Муслю-мова, сына Чернеева, 50 четвертей, ему доставшихся по наследству после деда Кундеберды Ендерова, да деревни Мостяк, у «служилого татарина» Алея мурзы Разбаева, да у Нурки мурзы Уразаева 50 четвертей, которые достались ему после деда, «служилого мурзы» Елистея Утяше-ва. Взял «новокрещен Яков Артемьев сын Рас-паев» за пашенную, гуменную, усадебную и примерную землю, сенные покосы и лесные угодья в количестве 590 четвертей в вышеописанных деревнях с Нефёда Никитича Кудрявцева 540 рублей.
21 июля 1735 года купчая была оформлена, а 14 декабря 1753 года генерал-майор Нефёд Никитич Кудрявцев недвижимое имение в деревне Тимошкиной Симбирского уезда « отдал во владение внуке своей, Анне Алексеевне, жене полковника Петра Панина » [8]. В октябре 1735 года Нефёд Никитич Кудрявцев просит сделать ему копии всех купчих крепостей. После Анны Алексеевны имение должно было перейти по наследству её брату, гвардии секунд-майору Петру Алексеевичу Татищеву, но по выписи из вотчинной конторы от августа 1754 года земли за ним «не оказалось». Однако выяснилось, что имение Анны Алексеевны Паниной после её смерти действительно досталось брату Петру
Татищеву, а от него — дочери, жене генерал-майора и кавалера Николая Александровича Чиркова, Елизавете Петровне, Татищевой по отцу.
Нефёд Никитич продолжает собирать имение дальше. В 1746 году 15 октября « новокрещен из татар » деревни Тимошкиной Симон Иванов продал ему поместную землю 19 четвертей с сенными покосами и лесом за 20 рублей, 11 июля 1757 года « завальной стороны Шама-лак « служилые мурзы » Миняш Симаков сын, да Яков Резепов сыновья князь Мамины, деревни Старой Тимошкиной служилые татары Дивлет Сафонов, будучи в Казани, дали запись господину генерал-майору Нефёду Никитину сыну Кудрявцеву в том, ( что ) в прошлых годах пожалованы отцу его, вице-губернатору Никите Алферову сыну Кудрявцеву, и ему, генерал-майору, в Симбирском уезде отписанных из-за отцов их и родственников за не восприятие христианской православной веры греческого исповедания, русские крестьяне с землёй и со всеми угодьями, которыми он, генерал-майор владеет ˂…˃ те крестьяне землёй владеют меньше, чем было у их предков » [9].
Следующий за этим факт заслуживает особого внимания: Миняш, Яков и Дивлет, не дожидаясь на них челобитной о незаконно захваченной у Кудрявцева земли, не только «полюбовно» вернули 47 четвертей «в поле, а в дву потому ж» с сенокосными и лесными угодьями, но и за нанесённый убыток выплатили ещё 100 рублей. 21 апреля 1730 года деревни Старой Тимошкиной «служилый татарин» Уразмет Ураскеев продал Дивлету Сафонову отцовское поместье 25 четвертей за 15 рублей, купчая на которое оформлена в Малом Карсуне.
Необходимо заметить, что поместную землю, данную «служилым татарам», не принявшим христианскую веру, забирали «за государя» и вновь передавали как порожнюю и никем не занятую по челобитью другому служилому. С такими фактами мы встретимся ещё не раз. 28 декабря 1748 года деревни Старой Тимошкиной мурза Кадырмет Григорьев передал Кудрявцеву землю 30 четвертей, которая за невосприятие христианской веры отцом Кадырмета была из его владения изъята. Немного раньше, 22 января 1747 года, деревни Ахметли мурзы Юсифь Мусакай, Мустафа Адыльша, хановы дети князь Богдановы, Юнис мурза Мимралеев, сын князь Мамин передали Кудрявцеву 162 четверти земли и неустойки 500 рублей. 7 июня 1718 года Симбирского уезда «деревни Свияжской вершины, Тимошкино тож, Сюндюк Семёнов продал
Юсуфу мурзе ханову, сыну князя Бoгданову распашной и залежной земли 50 четвертей со всеми угодьями, хоромными и хозяйственными строениями. В феврале 1748 года Сунчалей Смольянинов, князь Енгалычев, передал Кудрявцеву 80 четвертей, в число которых входили 16 четвертей, купленных в марте 1720 года, деревни Тимошкиной у Бактеряка Елдашева, доставшихся ему после брата Бабая Елдашева.
1 февраля 1756 года Симбирского уезда деревни Тимошкиной « служилый татарин » Юней Умряев купил у Кадермята Нюрляева землю, 25 четвертей за 25 рублей, жалованную его отцу Нюрляю Клюеву, 3 февраля он же купил деревни Малой Кулатки, Аделево тож, Мустафы Бабаева, при деревне Старой Тимошкиной, землю 12 четвертей, доставшуюся ему после отца Бабая Сендюкова, 13 февраля там же купил у мурзы Асана Муралеева, сына князя Богданова, 50 четвертей земли за 100 рублей, доставшихся Асану Муралееву после брата Сафара. И эта земля перешла в собственность Кудрявцева. 5 июня 1756 года деревни Старой Тимошкиной из «служилых татар» новокрещен Иван Ефимов купил у Кадырмета Нуриеева 25 четвертей, деревни Малой Кулатки, Аделево тож, у «служилого татарина» Мустафы Бабаева 12 четвертей, в Тимошкине у Асана мурзы Муралеева, сына князя Богданова, 50 четвертей. Оставив себе 30 четвертей, Иван Ефимов « 87 четвертей в поле, а в дву потому ж, с лесом, сенными покосами, усадебной, гуменной, огородной землёй, ско-тинным выпуском, примерной землёй, с мельничными берегами, продал Кудрявцеву за 140 рублей 50 копеек » [10].
К началу XIX века в земельной даче сызранских «служилых татар», несмотря на запретительный указ 1727 года, который категорически запрещал продавать землю бывшим служилым людям, а ныне пашенным солдатам, и Высочайшие подтверждения этого указа 1737 и 1749 годов, появились несколько сторонних имений помещиков, которые всё более стали претендовать на землю тимошкинских обывателей, а те, в свою очередь, стали захватывать земли, им не принадлежавшие. Это порождалось той черезполосицей имений, которая сложилась в силу нечёткости их границ и отсутствия у некоторых помещиков, в силу разных причин, документов на землю. Служилые люди, получившие землю в качестве жалованья за ратный труд, имели строго фиксированное количество четвертей под пашню, десятин сенокосных и лесных угодий, а также водопользования. Всё это находилось в общей меже, и никто на их землю и угодьи «со стороны» не имел права. Пришедшие после подавления разинского выступления на «порозжие земли» новые служилые совершенно не стесняли себя какими-либо правовыми или моральными рамками и нередко захватывали самовольно не только «государевы земли», но и земли, принадлежащие более слабым дворянам.
Все владельцы земельных поместий должны были представить документы, дающие право не только на владение этой землёй, в числе которых были и купчие, которые приводили к первому хозяину, но и грамоты, подтверждающие получение её от имени Великого государя. На этом этапе начались большие недоразумения между властью и помещиком. Имел помещик документы — владей и распоряжайся землёй и дальше, не имеешь документов — докажи, что ты владеешь ей на законном основании. Хорошо, если имелись губернские судебные архивы, помещик получал в них справки, то есть копии нужных документов, заверенные судом. А если не уцелели твои документы, и в архивах дело не отложилось, и соседи не намерены подтверждать, что землю получили твои деды и прадеды? Жди терпеливо, когда все остальные помещики докажут право на свои поместья, и если останется что из окружной межи данной земельной дачи, твоё счастье: получай землю и владей.
Именно с таким фактом и столкнулись владельцы всех поместных земель и казённые крестьяне деревни Тимошкиной, которые потребовали отделить их от помещиков в одно место, затем каждый владелец поместья начал подавать прошения на выход из общей межи.
Поверенные удельных крестьян деревни Тимошкиной Юскай Курамшин и Яхей Шафеев в 1826 году обратились c прошением в Сенгиле-евский уездный суд не только отделить их от помещиков в одно место, но и о том, что помещица Чиркова незаконно завладела 700 четвертями их земли. Это стало началом большого судебного спора, который тимошкинские обыватели начали вести на основании того, что указом Правительствующего сената от 30 сентября 1824 года велено в деревне Тимошкиной жене генерал-лейтенанта Чиркова Николая Александровича Елизавете Петровне выделить земли и отделить от других помещиков и от обывателей деревни Тимошкиной на основании указов 21 июня 1798 и 16 августа 1804 годов с 1821 года. В прошении Юская Курамшина и Яхея Ша-феева делается упор на то, что ни уездный суд, ни тем более Сенат не рассматривали их доку- менты и документы других владельцев. В 1826 году крестьяне подали жалобу министру финансов Российской империи о том, что Чирковой землю дали незаконно и земля принадлежала только «служилым татарам» (перечисляются все 49 человек) по указу из Приказа Казанского дворца июля 1719 года и по наказной памяти стольника и воеводы князя Щербатова и должна принадлежать их потомкам. И ни слова о том, что землю многие из «служилых татар» продали ещё Нефёду Никитичу Кудрявцеву, и она оформлена через суд в 1735 году. Главным аргументом просителя Юская Курамшина и Яхея Шафеева было то, что в Межевую контору Чиркова Елизавета Петровна представила не подлинные крепостные купчие, «а справки, полученные ею в 1806 году из Вотчинного департамента», и «прочих явленных купчих на 538,5 четвертей земли за господином Кудрявцевым не представлено» [11]. По этой справке земля Елизавете Петровне Чирковой была отмежёвана сразу.
Елизаветы Петровны Чирковой дочь Екатерина Николаевна, жена действительного статского советника и кавалера Поливанова Ивана Петровича, в прошении пишет о том, что обвинение Юская Курамшина в том, что получили они имение, не предъявляя никаких подлинных документов, кроме справки из Вотчинной коллегии, не имеет под собой оснований. Землю, купленную у разных перводатчиков — «служилых татар », Нефёд Никитич Кудрявцев начал оформлять ещё в 1735 году, получили на неё документы в 1741 году ещё до начала Генерального межевания, начавшегося в сентябре 1765 года, следовательно, никаких претензий к тому, что они якобы захватили 432,5 четверти самовольно и самоуправно, быть не может. А отсюда вытекает, что землю, отмежёванную от тимошкинских обывателей, необходимо соединить и замежевать в общую межу с имением матери Елизаветы Петровны в селе Акшуат, Богородское тож, которое ей ранее принадлежало, а теперь принадлежит Екатерине Николаевне Поливановой, её дочери.
Противостояние между казёнными крестьянами — тимошкинскими обывателями и Поливановыми из-за этих 432,5 четвертей земли (вместо 538 четвертей) [12] началось именно с того момента, когда в Межевую контору все участники раздела предъявили документы, имеющие формально-законное содержание: купчие крепости, дарственные записи, жалованные грамоты, Поливановы же — справку из Сената. Справка из Правительствующего Сената, высшего судебного органа Российской империи, их противников раздражала, вызывала не только недоумение, но и явное нежелание подчиняться решению Сената. Сенатские справки выдавались после тщательной проверки всех данных, затребованных с мест. Процедуру подтверждения наличия того или иного имения прошли многие десятки помещиков после того, как документы на право владения землёй сгорeли в огне Пугачёвского бунта. Горели поместья, сгорали бумаги, а с ними погибали и хозяева. «Крепостные документы, — пишет Екатерина Николаевна в прошении, — во время нашествия Пугача в город Казань в 1774 году згорели, о чём от покойного деда, лейб-гвардии секунд-майора Петра Алексеевича Татищева, подано было 1774 года июля 23 дня в Казанскую губернскую канцелярию явочное челобитье, с которого» была выписана копия, а крепостные документы выданы из вотчинного департамента [13].
Взаимные жалобы-прошения, постоянная судебная тяжба характеризуют отношения между всеми противоборствующими сторонами. 13 июня 1826 года действительная статская советница Екатерина Николаевна Поливанова, владелица села Акшуат, Богородское тож, Кар-сунского уезда обратилась к Сенгилеевскому уездному исправнику подполковнику Эткову Ивану Панфиловичу с прошением, в котором говорится о захвате пашенной земли с сенными покосами и другими угодьями, ей принадлежащей в деревне Старой Тимошкиной и находящейся в черезполосном владении с другими помещиками и местными удельными крестьянами, обывателями этого селения [14]. Поместье при деревне Тимошкиной принадлежало её предкам задолго до 1765 года (то есть до начала общего размежевания), но местные крестьяне-татары оспорили размежевание, проведённое в 1801 году, не признали его. Не признали и того, что 638 четвертей земли решением Сената общего собрания Санкт-Петербургского департамента 1821 года велено было согласно указам 21 июня 1798 и 16 августа 1821 годов и заключения господина министра финансов отделить помещиков к одним местам, о чём уездный суд 7 ноября 1824 года провозгласил решение. В июле 1826 года тимошкинские крестьяне-татары начали запахивать землю, выделенную из черезполос-ного владения; русских крестьян Екатерины Николаевны Поливановой к земле не допустили, засеяли озимым хлебом чужую пашню, сенокосные угодья захватили также силой. Уездный исправник Этков Иван Панфилович подтвердил это официально 15 июля 1827 года. Всего 69 крестьянских хозяйств Екатерины Николаев- ны Поливановой лишились земли. И ещё 42 загона из всех трёх полей, принадлежащих русским крестьянам, засеяли тимошкинские обыватели. В документах указаны все 69, а также 42 имени и фамилии и обиженных, и обидчиков. Повторялось это из года в год. Сжатый хлеб разыскивали, свозили на охраняемые гумна, сено из разных мест также отбирали, но это тимош-кинских крестьян не останавливало. В 1834 году появилось новое решение суда: утвердить землю за Поливановыми, за хлеб с татар взято 337 рублей 70 копеек, в счёт этих денег продать из 8 семей коров, тёлок, овец.
О том, что тимошкинские обыватели не стеснялись прихватывать чужие земли при любом удобном случае, говорит судебный процесс, начавшийся между вдовой капитана второго ранга Марией Степановной Шильниковой и удельными крестьянами деревни Тимошкиной. Обращаясь в Сенгилеевский уездный суд, она утверждает, что « при обмежевании моих дач в сёлах Смольковка, Уваровка и сельце Бестужевка, владений разных господ по смежеству Смыш-ляевской волости, в том числе и деревни Тимошкиной ˂…˃», оказалось, что пятнадцать четвертей её земли находятся во владении « оной деревни Тимошкиной ˂…˃ татарина ˂…˃ Ураз-метьева и детей его ˂…˃». Судебные споры длились с сентября 1788 по август 1810 года [15].
Попытка размежевания земель и установления чётких, юридически оформленных границ имений по Манифесту от 19 сентября 1765 года лишь сдвинула с места решение проблемы, но не дала желаемых результатов. Более 70 лет понадобилось, чтобы нерешённые до конца вопросы помещичьего землепользования получили новый законодательный стимул: 8 января 1836 года вышло Высочайшее постановление о качественном (уравнительном) размежевании земель, которое предусматривало «полюбовное», то есть добровольное принятие помещиками решения не только установления границ своих поместий, но и передела земли, находящейся в общей земельной даче, в пользу помещиков «малоимущих», что предусматривало выдел им земли, не менее 15 десятин на каждую крестьянскую душу. Сразу же внутри помещичьего сообщества началось большое движение, основанное на личной инициативе: постановление предусматривало не только добровольное, полюбовное решение проблемы, но и принудительные (судебные) меры в случае, когда кто-либо из землевладельцев не хотел подчиниться общему решению.
В августе 1837 года подаёт прошение в Межевую контору Сенгилеевский, третьей гиль- дии купеческий сын «из мурз князь Сулейман Абдуллаев, сын Акчурин», который, как и большинство просителей, получил «из Симбирского уездного суда» копию грамоты на получение «служилыми татарами» земли в 1690 году. И вновь в копии документа упоминаются все 49 «перводатчиков».
В прошении же Курамши Абдулова Акчурина упоминается, что предок его Муралей Степанов, сын Богданов, а потом наследники его, из которых последним был его дед, князь Яков Иванов, сын Богданов, по смерти которого вдова, его жена, княгиня Пелагея Михайловна Богданова, а по её смерти « я с протчими в оной деревне Старой Тимошкиной » в деревне Алексеевка владел 50 четвертями, и по наследству эта земля должна быть во владении Сафры и Фатьмы Якуповых, урождённых княжон Богдановых [16]. В другом документе о прошении Ку-рамши Абдулова Акчурина по указанному факту говорится, что Умралею Степанову, сыну Мама-лаеву, жалована была земля в 7153 (т. е. в 1645 году) [17], что вызывает сомнение уже тем, что ни в одном документе это утверждение не подтверждается.
Претендентом на свою часть становится и Ульяна Григорьевна Бахметева, подавшая прошение на выдел её имения. В одном из архивных документов говорится о том, что 11 августа 1754 года статский советник Ермолов Александр Фёдорович, скупавший земли помещиков по реке Свияга, по разделу с девицей Софьей Фёдоровной Чириковой получает семь четвертей, а она сорок с половиной, «по обе стороны речки Акшуватка и в Свияжских вершинах», из дошедшего по наследству имения её брата, полковника Максима Фёдоровича Чирикова, а ему по купчей от новокрещенного князя Чиглакаева при деревне Тимошкиной. Имение Чириковых состояло не только в сельце Чириково, но и при деревне Тимошкиной, близ реки Свияга. Собиралось оно традиционным способом того времени — купчими. Братья Чириковы приобрели на реке Свияга и речке Акшуатка земли после многих перводатчиков. В силу обстоятельств и на законном основании Софья Фёдоровна Чирикова передаёт имение, полученное после братьев, своей племяннице Софье Михайловне Чириковой в 1735 году. Софья Фёдоровна замуж не вышла (это было частым явлением в жизни именитых и богатых семей), у Михаила Фёдоровича же была только одна дочь Софья. Мужем её стал подполковник Григорий Иванович Бах-метев, поэтому в итоге всё имение Чириковых, в том числе и в вершинах реки Свияга, и на речке
Акшуатка стало Бахметевским. В итоге раздела между детьми Софьи Михайловны и Григория Ивановича Бахметевых та часть имения, что получена была из Тимошкинской дачи, перешла их дочери Ульяне Григорьевне. Более подробно о становлении и разделе этого имения между детьми Бахметевыми говорится в истории поместья Бахметевых при деревне Чириково, Пете-рики тож. Из Тимошкинской дачи по разделу ей на 36,5 четвертей досталось 148 десятин 1911 саженей [18].
Сын Григория Порецкого, одного из основателей села Порецкое, Рождественское тож, расположенного на реке Свияга, майор Иван Григорьевич Порецкий был с семейством единственным помещиком в селе своего имени. 9 июня 1737 года Иван Григорьевич купил у новокрещена Василия Петровича Мертвецова 5 четвертей земли, которую тот купил у «служилого татарина» Бекбулата Ижбулатова в деревне Тимошкиной. 28 декабря 1755 года была совершена покупка земли, 51 четверть, у новокрещена «из служилых чуваш» Савелия Фёдорова сыном Ивана Григорьевича подполковником Петром Ивановичем Порецким. Савелий Фёдоров землю эту купил у разных своих сослуживцев в деревне Тимошкиной. Брат Савелия, Михаил Фёдоров, 22 марта 1756 года Петру Ивановичу продал 34 четверти, которые в своё время он приобрёл «у Ельши, Гая, Резепа, Батырши, Вельши Кузралеевых детей, да у племянников Резепа, Рамазана, Душдея Резеповых Чунчириных». Всего на 19 сентября 1765 года за Петром Ивановичем Порецким в деревне Тимошкиной состояло 90 четвертей «в поле, а в дву потому ж». По смерти Петра Ивановича земельные имения в селе Порецкое и в деревне Тимошкиной перешли его дочери Екатерине, вышедшей замуж за Василия Марковича Неелова. Эти имения перешли их сыновьям: поручику Ивану Васильевичу и гвардии поручику Николаю Васильевичу Нееловым, которым эта земля принадлежала в общем владении черезполосно с другими помещиками. Сыновья разделили имение так, что село Порецкое полностью отошло Николаю Васильевичу. О земельных владениях Ивана Васильевича в селе Порецкое не упоминается, а вот Николай Васильевич в деревне Тимошкино получил 45 четвертей, то есть половину из имевшегося там имения деда Петра Ивановича Порецкого. Наследникам Нееловых в Тимошкине, детям Ивана Васильевича Неелова, пришлось сначала отмежеваться от казённых поселян. В 1825 году «майор и кавалер Иван и капитан Александр, Ивановы дети Нееловы» подали об этом проше- ние, что и было исполнено в 1829 году. По размежеванию общей дачи в Тимошкине между помещиками Иван Иванович и Александр Иванович на 45 четвертей получили 183 десятины [19].
По решению Правительствующего Сената было отказано в претензии на землю из Тимош-кинской дачи в количестве 1158 десятин 313 саженей подполковнику Беклемишеву, который, не имея на неё никаких документов, до этого времени владел ею незаконно.
Поручику Алексею Сергеевичу Насакину в сёлах Тимошкино и Борисовка земельная дача в 40 четвертей досталась по наследству после отца секунд-майора Сергея Яковлевича Насакина, ему же после его отца, дворянина Якова Ивановича Насакина, которому досталась от новокре-щенных мордовских мурз Петра Прокофьевича и Павла Семёновича, князей Еделевых, по закладной 18 июля 1756 года «в деревне Вешняковой в Барышских и Сурских вершинах и по другим урочищам» Симбирского уезда. Села Богородского, Кочкарлей тож, мордовские мурзы Пётр Прокофьевич и Павел Семёнович, князья Еделевы, заняли у Якова Ивановича Насакина из села Комаровка, Ивановское тож, в 1750 году сроком на один год 100 рублей под залог недвижимого имения, находящегося по обе стороны реки Барыш, в деревне Вешняковой в Ба-рышских и Сурских вершинах и до устья речки Кирмалы. Земля эта была дадена « в поместье деду Ишкаю мурзе Баюшеву, князю Еделеву, с товарищи, земли 40 четвертей в поле, а в дву потому ж с усадебною землёю, с лесы, сенными покосы и со всеми угодьи » [20].
Другая часть имения в количестве 50 четвертей поручику Насакину Алексею Сергеевичу досталась по наследству после матери Анны Гавриловны, ей же по купчей крепости 11 февраля 1796 года от жены поручика Анны Алексеевны Бобоедовой, которая получила эту землю по наследству после отца, титулярного советника Алексея Михайловича Зимнинского, а он после своего отца, вахмистра Михаила Алексеевича Зимнинского. По разделу 1799 года с сестрой Марией Сергеевной Карповой, которой было выделено в наследство после матери 10 четвертей, у Алексея Сергеевича осталось 40 четвертей. Дело его ведёт по доверенности, данной Насакиным в 1821 году, Ховрин Борис Иванович. Ему же дана доверенность на ведение дел и сестрой Алексея Сергеевича Марией Сергеевной Киреевой, которой в селе Тимошкино принадлежит 40 четвертей.
Коллежский советник Фёдор Степанович То-порнин и жена его Елизавета Петровна имеют в
Тимошкине имение, собранное в разные годы по купчим крепостям Елизаветой Петровной: в 1810 году 25 четвертей от жены коллежского асессора Авдотьи Саврасовой, в 1812 году 145 четвертей от Марии Яковлевны Депрейсо-вой, в 1813 году от Елизаветы Васильевны Ми-кулиной, сколько по межеванию придётся, и в 1820 году 8 четвертей от девицы Александры Ивановны Глядковой. Авдотье Саврасовой 25 четвертей земли дошли по выкупу от полковника и кавалера Ивана Палкина, которые были проданы ему двоюродным братом поручиком Андреем Семёновичем Глядковым. «По выкупу» означает то, что землю, проданную близким родственником, имеют право выкупить в течение определённого времени у покупателя другие родственники. Продавший землю Андрей Глядков получил эти 25 четвертей в числе прочих земель, входящих в имение, после отца, майора Семёна Фёдоровича Глядкова, ему же в ноябре 1792 года продал большое имение капитан Сергей Сергеевич Зимнинский. У Зимнин-ских после отца и деда Сергея Сергеевича было имение Симбирского наместничества Канадей-ской округи в селе Петровское, Головцово тож, 197 четвертей, в селе Архангельское, Воецкое тож, 35 четвертей, в деревне Новотимошкиной 50 четвертей, всего же 282 четверти в поле, а в дву потому ж, с лесами, сенными покосами, с усадебной и огородной, гуменной и примерной землёй. Жене надворного советника Депрейсо-вой Марии Яковлевне земля досталась по купчей от жены полковника Елизаветы Петровны Шишкиной. Александре Ивановне, девице Гляд-ковой, земля дадена была её дедом Семёном Андреевичем Глядковым и частично Елизаветой Микулиной.
В 1822 году о выделении его имения из общей межи просит штабс-капитан Семён Иванович Топорнин, который в прошении пишет: «В означенном селе Тимошкино, за родственницей предков моих, помещицей Марфой Гавриловной, по мужу Чегодаевой, состояло пашенной и не пашенной, со всеми угодьи, земли 57 четвертей с осминой, дошедшие ей по купчим: 1. 1733 года, февраля в 16 день Симбирского уезда Завального стана, деревни Старой Тимошкиной от служилого татарина Курмата Чалмаева 25; 2. 1753 года, сентября 27, от вдовы дворянской Авдотьи Ивановны Лыкиной 12 с осминой; 3. 1754 года, октября 26 из новокрещеных от татарина Якова Васильевича князя Пидорова 2 четверти ˂…˃» [21]. Земля эта поступила по наследству отцу, поручику Ивану Никифоровичу Топорнину, а после него — сы- новьям его, Семёну Ивановичу и Николаю Ивановичу Топорниным, по равному разделу.
В 1737 году, 17 декабря, Симбирского уезда деревни Старой Тимошкиной из служилых татар мурза Харамша Уразов, сын князя Мамина, и Сулейман Ахмадеев продали мурзе, новокреще-ну князю Александру Якупову, сыну Аникееву, в Симбирском уезде за валом, в деревне Новой Тимошкиной всего 75 четвертей земли в поле, а в дву потому ж: Харамша — 50, а Сулейман — 25 четвертей.
В 1727 году, 7 сентября, деревни Новой Тимошкиной Яков мурза Резепов, сын князя Мамина, продал новокрещену Козьме Андрееву, сыну Крымскому, и семье его пашенной земли 25 четвертей, дошедшей по наследству после деда.
Симбирский уездный суд, отдельно от других, начинает выдавать справки, подтверждающие размежевание общей земельной дачи и право выхода из общей межи, 18 марта 1841 года жене тайного советника Екатерине Николаевне Поливановой на 432,5 четвертей 1758 десятин 1537 сажен, жене действительного статского советника Александра Фёдоровича Ермолова Пелагее Ермоловой на 13,5 четвертей 54 десятины 2.146 сажен, жене капитана Ульяне Григорьевне Бахметевой на 36,5 четвертей 148 десятин 1011 сажен, майору Ивану и капитану Александру Нееловым, Сафре Якуповой Акчуриной и её сестре Фатьме Якуповой Чанышевой, по отцу княжнам Богдановым и Курамше Абдулову-Акчурину. Всего помещикам отделено 9382 десятины 688 сажен, казённым («ясашным») крестьянам на 873 души мужского пола и 961 женского — только 2336 десятин (в другом документе — 4000 десятин) [22]. В это время существовал трёхпольный севооборот. По требованиям Положения 1836 года о качественном межевании земель на мужскую душу должно было приходиться не менее 15 десятин.
Став независимыми от соседей, помещики начинают формировать свои имения по купчим крепостям или дарственным записям. Потомственный почётный гражданин, Симбирской первой гильдии купец Сулейман Абдуллаев Акчурин 3 октября 1863 года купил у коллежского регистратора Фёдора Христофоровича Яковлева не заселённых 19 десятин земли при селе Смоль-ково и 2 десятины лугов в урочище под названием Озёрки из числа 88 десятин, да 4 десятины 256 сажен по одной стороне реки Свияга, а всего 6 десятин 256 сажен за 600 рублей серебром. Земля Фёдору Христофоровичу Яковлеву досталась после отца и по наследству от дяди Аркадия Васильевича Яковлева [23]. Оформлял по- купку «прикащик» Акчурина Степан Никитич Патрикеев. По поводу этой сделки заявил протест Шабай Аипов Юнусов: проданный Акчурину луговой участок вблизи его мукомольной мельницы Яковлеву не принадлежит, он собственность Юнусова. Началась серия скандалов, связанных с продажей земли Яковлевыми. 14 февраля 1864 года Фёдор Христофорович продал крестьянину деревни Старое Тимошкино Хучи-Ахмету Абсалямову Абдрязакову при селе Смоль-ково 10 десятин из 88, доставшихся по наследству после дяди Аркадия Васильевича Яковлева. Шабай Аипов Юнусов заявил, что эта земля, находившаяся у Коромысловской грани, продана Яковлевым незаконно, она находится в судебном споре [24]. Вдове крестьянина деревни Старое Тимошкино Мярхун Куралиевой Юнусовой после смерти мужа Шабая Аипова Юнусова 13 февраля 1866 года досталась при селе Смольково пахотная земля с лесом в количестве 240 десятин, купленная им у Аркадия Васильевича Яковлева и его сестры «штабс-капитанши Елизаветы Васильевны Алексеевой», из числа которых мужем же было продано Курамше Абдуллаеву Акчурину 100 десятин и Сулейману Абдуллаеву Акчурину — 83 десятины 804 сажени. Из оставшихся от продажи 36 десятин 1596 сажен Акчурины с «помещицей Яковлевой» 28 десятинами 1596 саженями завладели незаконно. Вдова через суд просит вернуть захваченную силой землю [25]. 19 февраля 1866 года вдова Юнусова продала при селе Смолько-во по реке Свияга собственную землю в количестве 9,5 десятин с мукомольной мельницей о двух поставах и сенными покосами Торговому дому «Вдова Акчурина с сыновьями» [26].
-
1. Башиев Р. М. Старотимошкино: исторические зарисовки // Карамзинский сб. Наследие Н. М. Карамзина и современное развитие российского общества / под ред. С. М. Шаврыгина. Ульяновск : УлГПУ, 2014. 206 с. С. 163—164.
-
2. Перетяткович Г. Поволжье в XVII и начале XVIII века. Т. 1. Одесса, 1882. С. 35.
-
3. ГАУО. Ф. 124. Оп. 4. Д. 312.
-
4. Там же. Д. 1531.
-
5. Там же.
-
6. Там же. Д. 281.
-
7. Там же. Д. 232.
-
8. Там же.
-
9. Там же.
-
10. Там же.
-
11. Там же.
-
12. Там же. Д. 281.
-
13. Там же. Д. 312.
-
14. Там же.
-
15. Там же. Д. 295.
-
16. Там же. Д. 154.
-
17. Там же. Д. 312.
-
18. Там же. Д. 281.
-
19. Там же.
-
20. ГАУО. Ф. 113. Оп. 98. Д. 21.
-
21. Там же.
-
22. ГАУО. Ф. 124. Оп. 4. Д. 481.
-
23. Там же. Д. 1131.
-
24. Там же. Д. 1126.
-
25. Там же. Д. 1195.
-
26. Там же. Д. 1193.
Список литературы Поместные земли "Служилых Татар" Деревни старое Тимошкино Симбирской губернии
- Башиев Р. М. Старотимошкино: исторические зарисовки//Карамзинский сб. Наследие H. М. Карамзина и современное развитие российского общества/под ред. С. М. Шаврыгина. Ульяновск: УлГПУ, 2014. 206 с. С. 163-164.
- Перетяткович Г. Поволжье в XVII и начале XVIII века. Т. 1. Одесса, 1882. С. 35.
- ГАУО. Ф. 124. Оп. 4. Д. 312.
- ГАУО. Ф. ИЗ. Оп. 98. Д. 21
- ГАУО. Ф. 124. Оп. 4. Д. 481