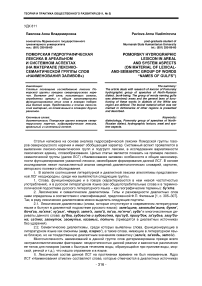Поморская гидрографическая лексика в ареальном и системном аспектах (на материале лексико-семантической группы слов «Наименования заливов»)
Автор: Павлова Анна Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 5, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию лексики Поморской группы говоров севернорусского наречия. Выявлен ряд слов, называющих заливы, определены ареалы и общие закономерности функционирования этих слов в говорах побережья Белого моря. Представлен и описан лексический материал, не отмеченный в словарях других регионов.
Диалектология, поморская группа говоров севернорусского наречия, гидрографическая лексика, ареальный и системный аспект
Короткий адрес: https://sciup.org/14933421
IDR: 14933421 | УДК: 811
Текст научной статьи Поморская гидрографическая лексика в ареальном и системном аспектах (на материале лексико-семантической группы слов «Наименования заливов»)
Статья написана на основе анализа гидрографической лексики Поморской группы говоров севернорусского наречия и имеет обобщающий характер. Системный аспект проявляется в выявлении лексико-семантических групп и подгрупп лексики, в исследовании вариативности лексических единиц, словообразования. Целью статьи является показать на примере лексикосемантической группы (далее ЛСГ) «Наименования заливов» особенности и общие закономерности функционирования указанной лексики, своеобразие формирования данной ЛСГ. В основе исследования лежит полиаспектный анализ сведений диалектологических словарей, картотек, авторского полевого обследования.
-
I. В аспекте соотношения литературной и диалектной лексики апеллятивы представленной ЛСГ неоднородны, среди них выявляются следующие группы.
-
1. Слова, функционирующие и в говоре (характеризуются в нем низкой частотностью употребления), и в русском литературном языке (как общеупотребительные слова и в терминологической подсистеме русского литературного языка – как географические термины): бу'хта .
-
2. Лексические и семантические диалектизмы. Типы и разновидности диалектных слов нами определены в соответствии с классификацией, предложенной Ф.П. Филиным [1, с. 305–307]. Так, в ряду лексических диалектизмов можно выделить следующие подтипы.
-
2.1. Лексические диалектизмы (слова, которые отсутствуют в современном литературном языке и бытуют в диалектной подсистеме русского языка): зале'щина, закольдю'жина, букля', боча'га, лаʼхтаʼ, ку'рьяʼ, чёвруй; затя'г, зало'й, поʼга, поʼтчаʼ; губа' и многочисленные дериваты данного слова: гу'бка, губови'на и губови'нка, при'губ, пригу'бок, за'губье, загу'би-на; са'лма; заомуток, заомутье, казамыс, потычь (приводятся в диалектных источниках без ударения).
-
2.2. Семантические диалектизмы, среди которых выявлены слова, функционирующие в литературном языке как омонимы ( шар, озеркоʼ ), а также слова, имеющие в литературном языке близкую, но не тождественную диалектным значениям семантику ( зали'в, за'водь, зато'н ).
-
Многочисленность наименований в данной группе слов детерминирована прежде всего экстралингвистическими факторами: неоднотипностью данной реалии и важностью различения ее типов для поморов (залив с быстрым течением воды, образующийся при приливе воды, морской, речной и т.д.), что нашло отражение и в языке.
-
II. Лексический состав данной ЛСГ на протяжении времени не был неизменным. Ядро ЛСГ «Наименования отмели» составляют слова, которые отмечаются в диалектных источниках
прошлого и бытуют в современном говоре: губа', гу'бка, губови'на и губови'нка, при'губ, пригу'бок, зало'й; ку'рьяʼ, са'лма, за'водь, лаʼхтаʼ [2; 3; 4].
Выявлены лексемы, утраченные современным Поморским говором: загу'бина, затя'г [5].
Часть лексем отмечается в составе ЛСГ «Наименования заливов» в говорах Беломорья сравнительно недавно: при'губ, пригу'бок, пригу՚бочек (пригу՚бочка), за'губье, за'губа; зао-му՚ток, заому՚тье, закольдю'жина, чёвруй, зато'н, букля', боча'га, зале'щина [6].
Часть лексики (12 слов) засвидетельствована в древнерусских и старорусских памятниках письменности (без указания ударения). По данным исторического «Словаря русского языка XI–XVII вв.» с XIV–XV вв. отмечаются слова курья, губа [7, вып. 4, с. 151; вып. 8, с. 142]; с XV–XVI вв. затон [8, вып. 5, с. 322]; с XVI в. лахта , залив , заводь, загубье, губка [9, вып. 8, с. 180–181; вып. 5, с. 232, 155, 177; вып 4, с. 152]; с нач. XVII в. залой [10, вып. 5, с. 235]; с XVII в. бочага [11, вып. 1, с. 304]. Также с XIV-XV вв. отмечается слово салма [12, т. 3, с. 550; 8, с. 221].
-
III. Своеобразие формирования ЛСГ «Наименования заливов» особо ярко проявляется в соотношении исконной и заимствованной лексики. Лексический состав представленной ЛСГ неоднороден по происхождению. Выявлен ряд слов со славянскими корнями: губа', гу'бка, гу-бови'на и губови'нка, при'губ, пригу'бок и пригуʼбочек (пригуʼбочка), за'губье, заʻгуба, загу'бина; закольдю'жина; зали'в; затя'г; заʼводь; зало'й; заомуʼток; заомуʼтье; зато'н; боча'га; озеркоʼ; зале'щина.
Лексика с корневыми морфемами неисконного происхождения в данной группе представлена меньшим количеством слов: германскими по происхождению апеллятивами букляʼ, бу'хта [13, т. 1, с. 237, 256]; финно-угорскими словами лаʼхтаʼ, ку'рьяʼ, са'лма [14, с. 220–223]; заимствованием из саамского диалекта норвежского языка чёвруй [15, т. 4, с. 309].
Подавляющее большинство единично зафиксированных апеллятивов являются словами неясной этимологии. Предположительна этимология слова шар : традиционно его возводят к коми, но приводятся соответствия и в других языках, например, в венгерском [16, т. 4, с. 407]. Исходя из фонетического облика слова, можно предположить заимствованный характер апеллятива казамыс . Слова поʼга, поʼтчаʼ и потычь , вероятно, исконные по происхождению. Слово поʼга предположительно связано с древнерусским поганый [17, с. 9], слова поʼтчаʼ и потычь могут быть связаны с древнерусским глаголом потечи в значении ‘прийти в движение’, ‘начать течь, литься’, который отмечается в том числе в севернорусских новгородских грамотах 1202 г.; ср. также зафиксированное историческим «Словарем русского языка XI–XVII вв.» словосочетание потичное течение [18, вып. 17, с. 291–292].
Преобладание исконной лексики над заимствованной в данной ЛСГ является следствием своеобразия языковой картины мира диалектоносителей и детерминировано прежде всего экстралингвистическими факторами: реалия «залив» была и ранее знакома славянам, заселявшим территорию Беломорья; следовательно, система названий реалии (наименования заливов) была перенесена ими на новые освоенные объекты, в результате чего необходимость заимствования лексики была невелика. Заимствованная лексика, выявленная в данной ЛСГ, является отражением в языке контактов славян с финно-угорскими народами.
-
IV. Многочисленность апеллятивов, называющих реалию «залив», обусловлено, в числе прочего, использованием для номинации объекта различных мотивировочных признаков и словообразовательных средств. В аспекте словообразования рассмотренные исконные апелляти-вы можно объединить в следующие группы слов.
Отыменное префиксально-суффиксальное образование наблюдается в словах:
при- + -ок – пригуʼбок , за- + -ок – заомуʼток , за- + -ин(а) – залеʼщина , загуʼбина , за- + -j(е) – заʼгубье , заомуʼтье .
Префиксальным способом от существительных с помощью формантов за- и при- образованы слова затоʼн, приʼгуб, заʼгуба .
Суффиксальным способом с помощью форманта - ин (а) от существительных образовано слово губови’на , с помощью суффикса -к ряд диминутивов - губови’нка, пригу’бочек и при-гуʼбочка, озеркоʼ.
Отглагольное образование наблюдается в меньшем ряду слов: залиʼв , залоʼй , заʼводь , затяʼг .
Следует отметить, что часть рассмотренных апеллятивов параллельно образована от одной производящей основы губа (гуʼбка, приʼгуб, пригуʼбок, загуʼбина, заʼгубье, губовиʼна).
Итак, наиболее продуктивной словообразовательной моделью в данной ЛСГ является отыменное образование исконной лексики. Данным способом образовано большинство рассмотренных наименований.
-
V. Отношения вариативности лексики в ЛСГ «Наименования заливов» проявляются в существовании нескольких типов вариантов. Более широко в данной группе представлена фонети-
- ческая вариантность. Выявлены фонетические варианты, различающиеся: а) количественным составом фонем: закольдю'жина и заколю'жина; б) заударной гласной фонемой и качеством предыдущего согласного: заводь и за'ведь. К появлению вариантов в говоре в ряде случаев приводит фонетическое освоение заимствованных слов. Так, в результате диссимиляции по твердости-мягкости сонорных согласных ли м появляется вариант сальма 'пролив' (салма). Названный фактор обуславливает и появление полногласных вариантов; действие в говоре закона полногласия видоизменило форму заимствованного слова са'лма - соломя. Утрату впоследствии полногласной формы исследователи связывают с «влиянием живого общения севернорус-сов с финнами», в результате которого русская полногласная форма соломя была вытеснена финской са'лма с закрытым слогом и сочетанием al перед согласным [19, с. 221].
В заимствованных словах данной ЛСГ наблюдается акцентологическое варьирование: ла'хта и лахта', ку'рья и курья'.
Морфологическая вариантность лексем данной группы представлена сосуществованием слов, различающихся родом: залиʼв – залиʼва, пригуʼбочек – пригуʼбочка и, возможно, типом склонения потыч - потча .
-
VI. Ареально-семантический анализ составляющих данную ЛСГ слов показывает следующее.
Выявлен ряд лексем, широко распространенных в русских народных говорах и связанных с севернорусскими, среднерусскими и отдельными южнорусскими говорами: залиʼв, заʼводь, залой, боча'г [20; 21].
Выявлены лексемы, обнаруживающие связь с говорами южнорусскими, исключая среднерусские: за’губье [22].
Некоторые лексемы являются собственно севернорусскими и не зафиксированы в других наречиях русского языка, причем часть данных диалектизмов известны севернорусским говорами повсеместно, на всей территории их распространения, что демонстрирует их генетическую общность и общность эволюции ( ку'рья' , зато’н ); в то же время часть диалектных лексем можно связать преимущественно с западными севернорусскими говорами ( букля’ , боча’га , лаʼхтаʼ ). Данные соотношения репрезентированы не только на лексическом, но и на семантическом уровне: значение 'залив' лексем зало’й, озерко' отмечено также в новгородских говорах, что объединяет западные севернорусские говоры и Поморскую группу говоров, значение 'залив' лексемы загу’бина связывает Поморские говоры с говорами Пскова [23; 24; 25; 26].
В особую группу нами выделены следующие апеллятивы:
-
- преимущественно севернорусские слова, демонстрирующие связи с сопредельными, смежными говорами Карелии, Архангельской и Ленинградской областей ( букляʼ, боча'га, за-губье, ла'хта, са’лма, загу’бина, за’губа );
-
- слова, относящиеся к «водной терминологии», обнаруживающие связь с говорами Волги и Каспия, что связано с наличием единого водного торгового пути ( затон, букля’ ).
Локальные диалектизмы, известные только говорам Беломорья, представлены следующим рядом слов: гу'бка, губови'нка, при'губ и пригу'бок, пригуʼбочек и пригу'бочка, затя'г, за-кольдю'жина (заколю'жина), заому’ток, заому’тье, зале’щина, чёвруй (чёвруя), потычь .
Внутрипоморские ареалы характеризуются следующим образом. Повсеместно в Поморье известны лексемы губа’ ; ку'рья, са'лма, за’водь; зали’в.
В результате анализа ареалов рассмотренных апеллятивов выявлены слова, имеющие в Поморской группе говоров лексические различия. Так, ряд лексем известен только в архангельском Беломорье: по'га (Онеж.), букля' (Онеж., Прим.), заому’ток и заому’тье (Онеж.). Только в мурманском Беломорье бытуют слова: чё'вруй (Севмор.), затон (Канд.), залой (Канд.), закольдю'жина (Ловоз.), за’губье (Тер., Канд.), губови'нка (Севмор.), при'губ и пригу'бок (Тер.), пригу’бочек и пригу'бочка (Канд.). Выявлен ряд лексем, известных только в Карелии, он представлен следующими апеллятивами: озерко' (Белом.), за'губа (Кем.) и загуба' (Белом.). В мурманских и карельских поморских говорах, исключая архангельское Беломорье, известны дериваты с корнем -губ-: губка (Мурм. Тер.; Карелия Кем., Белом.), губови'на (Карелия Белом., Мурм. Тер.). Некоторые апеллятивы известны в архангельском и карельском Беломо-рье, исключая мурманское: боча'га (Карелия Белом.; Арх. Онеж). В мурманском и архангельском Беломорье, исключая Карелию, известна лексема ла'хта 'залив в озере' (Мурм. Тер., Арх. Онеж.); 'небольшой морской залив' (Мурм.), 'залив' (Арх. Онеж.).
В говорах Беломорья репрезентированы и семантические различия:
боча'га 'речной залив; заводь' (Арх. Онеж.); 'топкое место в лесу' (Карелия Белом.; Арх. Онеж); ку'рья 'залив' (Мурм. Тер.; Карелия Белом.; Арх. Прим., Мез.); курья' 'залив' (Карелия Белом.); 'пролив' (Мурм. Тер.; Карелия Кем., Белом.); 'сухое место, расположенное между озерами, где была протока' (Карелия Белом.); са'лма 'залив' (Арх. Онеж.); 'речной залив, заводь' (Мурм. Тер. Умба); 'пролив' (Мурм. Тер., Канд.; Карелия Кем., Белом.; Арх. Прим.); за'губа 'речной залив'
(Карелия Кем.); загуба' 'островки за губой' (Карелия Белом.); ла'хта 'залив' (Арх. Онеж.); 'залив в озере' (Мурм. Тер., Арх. Онеж.); 'небольшой морской залив' (Мурм. Ловоз., Тер.).
Изменили ареал следующие лексемы: зало'й (Арх. губ. Онеж. у. в прошлом – Мурм. Канд. в современности).
Выявлен ряд слов, расширивших ареал: ку'рья (только в Арх. губ. Онеж. у. в прошлом – Арх., Мурм., Карелия в современности).
-
VII. Семантический объем апеллятивов данной группы не тождественен. В этом аспекте исследованную лексику можно разделить на две группы. К первой относятся слова, имеющие только одно значение и служащие для наименования одного конкретного типа объекта ( буʼхта, гуʼба, гуʼбка, губовиʼна, губовиʼнка, приʼгуб, пригуʼбок, закольдюʼжина (заколюʼжина), затяʼг, загуʼбина, заʼгубье, заʼгуба, затоʼн, заомуʼток, заомуʼтье , а также апеллятивы единичной фиксации казамыс, поʼга, поʼтчаʼ, потычь ), во вторую группу входят слова, имеющие два и более значений ( букля', боча'га, зали'в, заʼводь, залоʼй, ку'рья, лаʼхта, са'лма, чёвруй, шар, озеркоʼ, залеʼщина ). Перенос наименования с одного объекта на другой происходит в подавляющем большинстве случаев внутри одной лексико-тематической группы.
Некоторые апеллятивы развивают новые значения в говорах Беломорья: ку'рья 'сухое место, расположенное между озерами, где была протока' (Карелия Белом. Сосновец).
-
VIII. Географическая лексика в целом находит отражение в топонимике, что обуславливает необходимость привлечения топонимических данных при исследовании диалектной апел-лятивной лексики. Нашли отражение в топонимии края апеллятивы: губа', ку'рья, лаʼхта, са'лма, чёвруй, шар, озеркоʼ, заʼводь ; также поʼтчаʼ и потычь .
Подводя итог, можно отметить такие особенности формирования и функционирования ЛСГ «Наименования заливов» в составе гидрографической лексики, как многочисленность составляющих ее лексем – 30 единиц, из них 26 – собственно диалектные слова. Слов, известных литературному языку в значении ‘залив’, но имеющих в литературном языке и поморском говоре различия в семантике и ее объеме, отмечается в составе данной ЛСГ 3; 1 слово функционирует и в говоре, и в литературном языке. В составе ЛСГ происходили изменения: 2 лексемы утрачены современным Поморским говором, 13 вошли в данную ЛСГ относительно недавно, 12 единиц засвидетельствованы в древнерусских и старорусских памятниках письменности. Лексический состав представленной ЛСГ неоднороден по происхождению, отмечается преобладание исконной лексики над заимствованной, что детерминировано экстралингвистическими факторами (реалия «залив» была знакома славянам и раньше, поэтому необходимость заимствования лексики для номинации объекта была невелика). Заимствованная лексика отражает в языке контакты славян с финно-угорскими народами: в составе ЛСГ выявлено 3 финноугорских слова. В ЛСГ «Наименования заливов» широко представлены разные типы вариантов: фонетические (4), акцентологическое (2), морфологическая (3). Наиболее продуктивной словообразовательной моделью в данной ЛСГ является отыменное образование исконной лексики. Выявлено 11 локальных поморских диалектизмов.
Поморский говор не однороден и репрезентирует различия на лексическом уровне: 5 лексем данной ЛСГ известны в Поморье повсеместно, 4 – только в архангельском Поморье, 8 – в мурманском, 3 – в карельском. В говорах Поморья репрезентированы и семантические различия (5 лексем). 2 лексические единицы изменили свой ареал (внутри говора). Семантический объем слов данной ЛСГ не тождественен; некоторые лексемы имеют одно значение и служат для наименования одного типа объекта (19 слов), некоторые слова имеют два и более значений (12 слов). Перенос наименования с одного объекта на другой происходит в подавляющем большинстве случаев внутри одной лексико-тематической группы. Один апеллятив развил новое значение в говорах Поморья.
Как и гидрографическая лексика в целом, апеллятивы ЛСГ «Наименования залива» также нашли отражение в топонимике края (10 слов).
Ссылки:
-
1. Филин Ф.П. Очерки по теории языкознания. М., 1982.
-
2. Картотека «Архангельского областного словаря» (место хранения – Московский государственный университет им. Ломоносова).
-
3. Картотека «Словаря русских народных говоров» (место хранения – Институт лингвистический исследований РАН).
-
4. Картотека «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» (место хранения – Санкт-петербургский государственный университет).
-
5. Там же.
Список литературы Поморская гидрографическая лексика в ареальном и системном аспектах (на материале лексико-семантической группы слов «Наименования заливов»)
- Филин Ф.П. Очерки по теории языкознания. М., 1982.
- Картотека «Архангельского областного словаря» (место хранения -Московский государственный университет им. Ломоносова).
- Картотека «Словаря русских народных говоров» (место хранения -Институт лингвистический исследований РАН).
- Картотека «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» (место хранения -Санкт-Петербургский государственный университет).
- Картотека «Лексического атласа русских народных говоров» (место хранения -Институт лингвистический исследований РАН).
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т./пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М., 1986-1987. Т. 1-4.
- Федоров А.И. Освоение заимствованных слов в севернорусских говорах//В Диалектная лексика. 1969. Л., 1971. С. 219-226.
- Матвеев А. К. Финно-угорские заимствования в русских говорах Северного Урала. Учен. зап. Урал. ун-та, вып. 32. Свердловск, 1959.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 1, М.: Наука, 1975, 372 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 2, М.: Наука, 1975, 320 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 3, М.: Наука, 1976, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 4, М.: Наука, 1977, 404 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 5, М.: Наука, 1978, 392 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 6, М.: Наука, 1979, 360 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 7, М.: Наука, 1980, 404 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 8, М.: Наука, 1981, 352 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 9, М.: Наука, 1982, 360 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 10, М.: Наука, 1983, 327 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 11, М.: Наука, 1986, 455 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 12, М.: Наука, 1987, 383 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 13, М.: Наука, 1987, 319 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 14, М.: Наука, 1988, 311 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 15, М.: Наука, 1989, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 16, М.: Наука, 1990, 295 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 17, М.: Наука, 1991, 296 с.