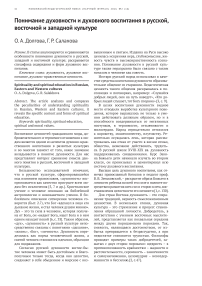Понимание духовности и духовного воспитания в русской, восточной и западной культуре
Автор: Долгова Ольга Анатольевна, Салахова Гюзель Ринатовна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 2 (16), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются и сравниваются особенности понимания духовности в русской, западной и восточной культуре; раскрывается специфика содержания и форм духовного воспитания.
Духовность, духовное воспитание, духовно-нравственные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/14219673
IDR: 14219673
Текст научной статьи Понимание духовности и духовного воспитания в русской, восточной и западной культуре
Воспитание ценностей гражданского мира, доброжелательного и терпимого отношения к людям является одним из аспектов духовно-нравственного воспитания в развитых культурах и во многом зависит от того, какое значение вкладывается в понятие духовности. Для нас представляет интерес сравнение смысла данного понятия в русской, восточной и западной культурах.
Большинство исследователей отмечают, что в русской культуре, сформировавшейся под влиянием православия, «духовность» воспринимается как качество присущее всем людям без исключения [5, 7 и др.]. Христианское учение о человеке основано на библейской антропологии и новозаветном учении. В библейском описании сотворения человека говорится (Быт. 2.7), что Бог «вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Дух – это та сила в человеке, которая получена от Бога, он «ведает Бога, ищет Бога и в нем одном находит покой [6, с. 33]. Таким образом, «дух», «духовность» в русской культуре непосредственно связаны с понятиями «дыхание», «жизнь», «Бог», «личность». Духовность определялась как норма человеческой жизни, а святой человек становился идеалом, образцом для подражания.
Согласно русской духовности житие-бы-тие человека может быть достойным и благополучным только тогда, когда оно целостно, соединяет в себе обыденное и мирское с воз- вышенным и святым. Издавна на Руси высоко ценилась искренняя вера, глубокомыслие, живость чувств и высоконравственность сознания. Понимание духовности в русской культуре также неразрывно было связано с таким началом в человеке как совесть.
Исстари русский народ использовал в качестве средства воспитания духовности образовательное общение со старшими. Педагогическая ценность такого общения раскрывалась в пословицах и поговорках, например: «Слушайся добрых людей, они на путь наведут», «Кто добрых людей слушает, тот Богу спорник» [3, c. 9].
В целях воспитания духовности видное место отводили выработке культурного поведения, которое выражалось не только в умении действовать должным образом, но и в способности воздерживаться от негативных поступков, в терпимости, отзывчивости и милосердии. Народ отрицательно относился к воровству, мошенничеству, плутовству. Решительно осуждалась лень, которая рассматривалась как отказ от участи в жизни семьи, общества, нежелание действовать, трудиться. В русской школе XVIII-XIX вв. духовность поддерживалась священниками. Курс Закона Божьего дети начинали изучать во втором классе, он пронизывал и цементировал всю систему духовного воспитания.
Высшая цель духовного воспитания, как отмечал православный богослов и педагог проф. В. В. Зеньковский, – раскрытие образа Божьего в личности ребенка во всей его силе и полноте посредством развития всех сил и сторон в нем, восстановления целостности его личности [1, с. 130].
Для стран Востока духовность – это сохранение традиций, верность смысложизненным ценностям. В нескольких словах, духовная культура – это стремление и процесс становления образцовой личности. Добродетель, в соответствии с учением восточных мыслителей, представляется как похвальная середина между двумя порицаемыми пороками. Так, смелость, являющаяся достоинством, от избытка превращается в безрассудство, а при недостатке становится трусостью. Философы приводят примеры таких добродетелей, зажатых с двух сторон пороками: щедрость – в противоположность крайностям – жадности и расточительности, скромность – заносчивости и самоуничижению, целомудрие – невоздержанности и бессилию.[2, c.47].
Мыслители Арабского Востока посвятили свои труды разработке программы духовного развития личности. Они сами были эталонами подобной гармонии и осуждали как образованных негодяев, так и благочестивых невежд. Высоко чтил арабский мир учёного философа Аль-Фараби. Цель духовного воспитания по Фараби, – подвести человека к этому благу через поощрение стремления совершать добрые дела. Осознать, что именно является добрым или злым, помогают знания. Чтобы дать духовное воспитание детям, сначала надо воспитать себя или найти достойных людей. Послушание и уважение – две главных добродетели, которые должны быть у восточного ребёнка. Система обязывает детей чтить родителей даже в зрелом возрасте.
Что же касается понимания духовности в западной культуре, то там можно обнаружить следующие особенности. В английском языке «дух Божий» обозначается словом «spirit», а когда речь заходит о духовности человека, то используется слово «breath». Оно не является однокоренным со словом «spirit» и переводится как дыхание (без связи с духовностью). Аналогичная ситуация в немецком и французском языках, однако в латинском переводе Библии такой разницы нет.
Некоторые исследователи отмечают, что в Западной Европе взгляд на духовность человека со времен Реформации претерпел существенные изменения. Если во времена блаженного Иеронима (IV-Vвв.) считалось, что духовность имманентно присуща человеку как некий Божий дар, то Реформация лишает человека духовности, сопричастной Святому Духу (в поздней западной иконографии нимбы святых «парят» в воздухе, не соприкасаясь с их головами) [7, с. 130]. В это время в западных языках по отношению к человеку начинают употребляться слова «этика» и «мораль», а духовность оказывается связанной с внешней по отношению к человеку религиозностью или мистикой. Такой подход распространен в западном христианстве и в настоящее время. Данное обстоятельство усугубляет духовный кризис Западной цивилизации.
На рубеже XIX-XX вв. русский философ И. А. Ильин, писал, что в Западной цивилизации, именуемой себя христианской, религия уже давно перестала быть центром духовной жизни, культура обособилась от христианства и ушла в безрелигиозную, безбожную пустоту, в никуда [4, с. 301].
Специфика теории духовного воспитания на западе заключается в том, что, начиная с эпохи Возрождения, акцент делался на земных, а не Божественных ценностях, что обусловливало их субъективацию и относительность. Получившее широкое распространение в западной педагогике второй половины XX века гуманистическое направление сделало акцент на самоценности человеческой личности, а в воспитательном плане на возможности самоактуализации, саморазвития и самореализации воспитанника.
Таким образом, можно сделать вывод, что в русской культуре понятие духовность связывается прежде всего с религиозной стороной жизни человека, но может трактоваться и более широко (как феномен присущий каждому человеку). В западной же культуре связь духовности с сущностью человека и его причастностью Богу разрывается. В восточной культуре духовность понимается как реализация добродетелей, связанных прежде всего с верностью традициям. Спецификой понимания духовности обусловлены особенности предмета, методов и содержания духовного воспитания.
Список литературы Понимание духовности и духовного воспитания в русской, восточной и западной культуре
- Василий Зеньковский, протоиерей, профессор. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М., 1993.
- Галаганова С.Г. Восток: традиции и современность//Запад и Восток: традиции и современность. М.: Знание, 1993.
- Даль В.И. Пословицы русского народа. Том 1, 1879.
- Ильин И.А. Собрание сочинений. В 10 т. Т.1 М., 1993.
- Соловцова И.А. Духовное воспитание в православной и светской педагогике: методология, теория, технологии. Волгоград, 2006.
- Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М., 2006.
- Янушкявичене О., Склярова Т. Понимание духовности и духовного воспитания в русской и западной культуре//Основы православной культуры. 2014. № 9.