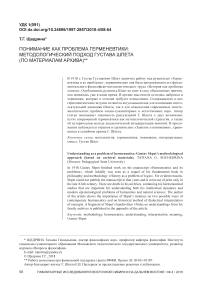Понимание как проблема герменевтики: методологический подход густава шпета (по материалам архива)
Автор: Щедрина Татьяна Геннадьевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Методология социально-гуманитарного познания
Статья в выпуске: 4 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
В 1918 г. Густав Густавович Шпет закончил работу над рукописью «Герменевтика и ее проблемы», первоначально она была продолжением его фундаментального философско-методологического труда «История как проблема логики». Опубликовать рукопись Шпет не смог в силу объективных причин, она появилась уже в наше время. В архиве мыслителя остались наброски и черновики, которые и сегодня требуют осмысления. Содержащиеся в них герменевтические штудии остаются актуальными как для понимания интеллектуальной динамики Шпета, так и для осмысления современных эпистемологических проблем социо-гуманитарных и естественных наук. Автор статьи показывает значимость рассуждений Г. Шпета о двух возможных путях современной герменевтики как методологической стратегии, а также об историческом методе диалектической интерпретации понятий. В приложении публикуется отрывок из рукописных «Заметок о понимании», хранящихся в семейном архиве Г. Шпета.
Методология, герменевтика, понимание, интерпретация, смысл, густав шпет
Короткий адрес: https://sciup.org/170175876
IDR: 170175876 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2018-4/58-64
Текст научной статьи Понимание как проблема герменевтики: методологический подход густава шпета (по материалам архива)
К 100-летию рукописи Густава Шпета «Герменевтика и ее проблемы»
Последние тридцать лет в гуманитарных кругах ведутся дискуссии о философском статусе герменевтики (см.: [1; 7; 25]). Одни исследователи полагают, что это область эпистемологии интерпретации [8; 15], а другие трактуют ее как фундаментальную онтологию понимания [3; 5]. Каждая из этих точек зрения исторически фундирована. Одной из центральных фигур в этих спорах является Густав Густавович Шпет, о герменевтических идеях которого шли острые дискуссии [4; 6; 7; 17]. В этом году исполняется 100 лет рукописи Шпета «Герменевтика и ее проблемы», она была опубликована наследниками впервые около 30 лет назад в ежегоднике «Контекст» (1989–1993) [9]. Но идеи, которые в ней содержатся, и сегодня актуальны, они могут быть востребованы в качестве методологического ориентира в современных социо-гуманитарных [10; 11; 13] и, акцентирую на этом особое внимание, естественных науках1 [16; 24]. И прежде всего потому, что Шпет уверен в когнитивной эффективности герменевтики, т. е. в том, что с ее помощью можно постигать истину даже там, где это кажется невозможным – в области интерпретации [12]. Эта точка зрения идет вразрез с устоявшейся сегодня философской трактовкой герменевтики как исключительно плюралистической методологии. Современные исследователи аргументируют эту точку зрения тем, что интерпретация у каждого ученого своя и не может быть одного-единственного истолкования социо-гуманитарной реальности.
Шпет, однако, утверждает, что герменевтика может привести к истине. Недаром он напоминает нам о том, что исторически сложились две герменевтические традиции, в основе которых лежат: 1) аллегорическое истолкование; 2) историческое и грамматическое истолкование. И если аллегорическое истолкование предполагает множество интерпретаций, то историческое и грамматическое – только одну, и такое толкование возможно тогда, когда исследователь сознательно закрывает контекст системы, в которой работает. Если в аллегорическом толковании сознание исследователя допускает несколько смыслов в словах и выражениях, то в герменевтике исторической познание и понимание идут рука об руку, что и позволяет ученому искать один определенный смысл, который был выражен в исследуемом тексте как знаково-символической системе. «Смысл не является абстрактной формой выражения, он не дан извне, но таится в глубине предмета, поэтому понимание как непосредственное постижение смысла составляет ядро логического содержания мыслительных актов. Такая постановка проблемы приводит Шпета к разработке герменевтических принципов или, как он сам формулировал, принципов “диалектической интерпретации” понятий, выраженных в словесной форме» [26, c. 8].
Проблема понимания наиболее глубоко и основательно была раскрыта Шпетом в «Эстетических фрагментах», где он выделяет восемь ступеней понимания (как восприятия слова). Они были неоднократно интерпретированы, и я не буду на них здесь подробно останавливаться. Важнее другое. Воспользуемся тем вопросом, который Шпет считал наиболее значимым при работе с историческими текстами и смыслами. Важно не только постулировать мнение, но понять и выразить путь к истине, т. е. рассказать, как мы к этому пониманию приходим. Вот и мы зададимся вопросом о том, как Шпет приходит к трактовке понимания, предложенной им в «Эстетических фрагментах».
Именно здесь и начинает работать его архив – лаборатория философа, погружаясь в которую можно проследить динамику его мысли. В семейном архиве Шпета сохранилась папка с подготовительными материалами, которые можно озаглавить «Заметки к проблеме понимания». Они не имеют логической связности и завершенности, не пронумерованы последовательно, только изредка появляются какие-то следы нумерации. Если использовать шпетов- скую терминологию, то эти заметки со следами нумерации – знаки, которые указывают на конкретные части определенного целого.
И еще одну важную особенность шпетов-ской стиля мышления открывает нам архив. Сохранились его записи, напоминающие работу историка понятий. Он выстраивал исторически, как менялось понимание того или иного термина (от одного философа к другому, от одной интерпретации к другой). Вот, к примеру, как Шпет выстраивал цепочку трактовок Verstehen :
Wolf2 – понимать – иметь о вещи отчетливые идеи или понятия (Усмотрение основания и сущности: NB! Ratio § 157 ff) [32, c. 128]3.
Suabedissen4 (§ 129ff) – познание значения и места в системе идей [30, c. 117– 118].
Бахман5 (стр. 64) – понимать = познавать не только was, но и warum (Единство Verstehen и Vernunft!) [2, c. 64].
Фейербах6 – познавать в себе и из себя в согласии с другими [14, с. 32].
Lazarus7 (II, 160) – схватывать внутреннюю связь , отношение в причине и цели [27, c. 160].
Meinong8 – схватывать «объективно»; понимание сказанного – в схватывании его значения [28, с. 25, 42].
Tönnies9 (6ff) – вид воли к усвоению; симпатия [31, c. 6 ff].
Prantl10 (Verstehen und Beurteilen, 6) – непосредственное схватывание в мысли; родственно Begreifen [29, c. 6].
Думаю, что этот способ терминологической работы также может быть сегодня актуальным для историков философии и культуры, работающих с понятийным слоем социо-гуманитарной реальности и ориентирующихся на методологию Р. Козеллека.
Ниже публикуется законченное рассуждение из «Заметок о понимании». Шпет специально пронумеровал три страницы, поставив на каждой из них число 114, что соотносится с пагинацией развернутого плана III тома «Истории как проблемы логики» [18, с. 201– 211]. «Глава вторая: Из истории терминологии. 1, Обзор понятий и необходимость исторического очерка, чтобы не возвращаться – 88) 96) 114)» [18, с. 204]. Это рассуждение во многом расширяет наше осмысление шпетовского подхода к герменевтике, наполняет его новыми оттенками смыслов, позволяет еще добавить несколько недостающих частей в целое (я имею в виду рукопись его незавершенного труда «История как проблема логики», реконструкцию см.: [23]).
Рассуждение публикуется по рукописи, хранящейся в семейном архиве Г.Г. Шпета. Курсивом выделены слова и фразы подчеркнутые Шпетом, зачеркивание сделано Шпетом.
Приложение
Шпет Г.Г. «Заметки о понимании» (отрывок)
Публикация и археографическая работа Т.Г. Щедриной
Понимание, уразумение.
Возьмем слова и выражения:
Соображение, сметка, сметливость, уловить, схватить, почувствовать мысль, сообразительность, проницательность, постигать, обнять смыслом, охватить разумом, взять в толк, усвоение (умственное), проникнуть в смысл, раскусить, освоиться с чем-то, составить понятие о чем-то, увидеть, смыслить в чем-то и т. п.
Отбрасывая оттенки значений и смысла этих слов, мы в каждом из них найдем нечто, что позволяет связать их с одной группой переживаний, которую общо можно узнать под термином понимание , понимать . Но в широком смысле, если и не обыденном словоупотреблении, то в психологических определениях можно встретить такие описания понимания, где к функции понимания будет отнесена также деятельность «образования понятий » или оперирования над понятиями, разумея под понятиями логически определенные средства познания. «Понимание» этой стороной сближается с познанием, суждением, даже выводом. Но это сближение уже лишает собственно «понимание» некоторых специфических черт, которые <ближе> запечатлеваются в слове «разумение» и которые, хотя также связаны с познавательной характеристикой, но тем не менее не прямо указывают, что в данном акте совершается новое приобретение или расширение известного, уже знакомого, в направлении нового содержания.
Для разумения как такого существеннее указать, что с разумением и в особенности с уразумением мы даже в «знакомом» уже нам проникаем куда-то вглубь : мы «понимаем», «уразумеваем» в глубже, тоньше. От этого и само разумение характеризуется как глубокое, тонкое, проницательное, прежде всего куда-то внутрь чего-то проникающее через какую-то среду или содержание.
Как и в познании в широком смысле, здесь также есть переход от «неизвестного» к «известному», но это не есть простое накопление, прибавка к прежде известному, и не есть так же усмотрение каких-либо вообще новых черт в «знакомом», а это есть, скорее, усмотрение некоторых определенных черт, которые можно характеризовать в первую очередь как черты связи, внутренней связи, какого-то объединения рассматриваемого. Так простая прибавка к известному уж нам факту нового факта может дать новое знание, но еще может не дать понимания или уразумения факта. Подметить связь между ними, «внутреннее единство», связать эти факты с чем-то третьим – уже значит внести в них свет смысла, приблизиться к их пониманию или понять их, уразуметь.
Нетрудно выделить то, на что собственно направляется акт уразумения, это есть некоторый смысл или значение. Имея в виду только это значение термина понимания, мы его довольно ясно отличаем от акта познания в соответствующем смысле. «Узнать смысл» есть выражение или только переносное и тогда в нем чувствуется некоторая неловкость, или мы все-таки подразумеваем здесь «узнавание» в несобственном смысле, предполагая нечто дополнительное к голому акту познания, нечто его сопровождающее, как опять-таки «постижение», «проникновение», «углубление» и т. п.
Во всяком случае, для разумения существенным остается его направленность именно на смысл. Анализ акта разумения может быть описан только как корреляция смысла; уразуметь = раскрыть, усмотреть, уловить смысл.
Но, с другой стороны, в чистой рефлексии на акт разумения мы его находим как функцию специфической «способности», которую мы называем разумом ; способность понимания есть опять функция разума или «интеллекта». Останемся пока при русских словах, и мы отнесем понимание именно к разуму. По-русски разум прежде всего, конечно, разумеет, также и познает, а сверх того еще «руководит» нашими действиями. Но все-таки существенно для разума именно разумение, так как «разумное познание» отличаем от не-разумного, неосмысленного, разумное действие отличаем от не-раз-умного, неосмысленного, нецелесообразного. – «Понять намерения».
***
Итак разум с разумением коррелятивен уразумеваемому смыслу. Тут должно быть найдено специфичное и существенное.
Разумение должно быть выделено от 1) познания, и должна быть указана связь с 2) целесообразным действием, 3) чувствованием (состоянием сознания). Интерпретация дает интеллигибельной интуиции место в реальном источнике действия, человек за пределы я.
Коррелятивно смысл 1) специфицируется в содержании предмета; 2) специфицируется в предмете действия и поведения; 3) специфицируется в предмете состояния сознания.
Список литературы Понимание как проблема герменевтики: методологический подход густава шпета (по материалам архива)
- Ананьева Е.М. «Герменевтический проект» Г. Г. Шпета и проблемы современной герменевтики//Русская философия: новые решения старых проблем. Ч. 1. СПб.: СПбГУ, 1993. С. 73-74.
- Бахман К.Ф. Система логики. Ч. II. СПб.: тип. К. Крайя, 1832.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.
- Гидини М.К. Особенности герменевтики ГГ. Шпета//Начала. 1992. № 2. С. 13-18.
- Инишев И.Н. Событие и метод: философская герменевтика в контексте феноменологического движения//Вестник Томского государственного университета. 2010. № 333. С. 32-35.