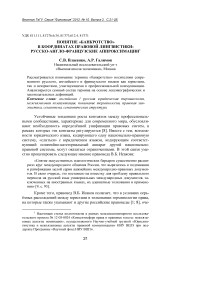Понятие «банкротство» в координатах правовой лингвистики: русско-англо-французские аппроксимации
Автор: Власенко Светлана Викторовна, Галимов Амир Рафаэлевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики исследований
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается понимание термина «банкротство» носителями современного русского, английского и французского языков как юристами, так и неюристами, участвующими в профессиональной коммуникации. Анализируется семный состав термина на основе лексикографических и законодательных дефиниций.
Английская / русская юридическая терминология, межъязыковая коммуникация, понимание терминологии, правовая лингвистика, семантема, семантическая структура
Короткий адрес: https://sciup.org/146120968
IDR: 146120968 | УДК: 811.111,
Текст научной статьи Понятие «банкротство» в координатах правовой лингвистики: русско-англо-французские аппроксимации
Устойчивые тенденции роста контактов между профессиональными сообществами, характерные для современного мира, обусловливают необходимость определённой унификации правовых систем, в рамках которых эти контакты регулируются [8]. Вместе с тем, возможности юридического языка, кодирующего одну национально-правовую систему, «слиться» с юридическим языком, кодирующим соответствующий понятийно-категориальный аппарат другой национальноправовой системы, могут оказаться ограниченными. В этой связи уместно процитировать следующее мнение правоведа В.Б. Исакова:
«Снятие искусственных идеологических барьеров существенно расширило круг международного общения России, что выразилось в подписании и ратификации целой серии важнейших международно-правовых документов. В свою очередь, это поставило на повестку дня проблему правильного перевода на русский язык универсальных международных документов, заключенных на иностранных языках, их адекватные толкования и применения» [9, с. 93].
Кроме того, правовед В.Б. Исаков полагает, что в условиях серьёзных расхождений между юристами в толковании терминологии права, на которые также указывают и другие российские правоведы [1; 8], оче- видна «необходимость унификации юридической терминологии, без чего... невозможны дальнейшее развитие законодательства и взаимопонимание между народами и государствами в XXI веке» [9, с. 95].
На целесообразность выработки гармонизированных понятий указывает также Е.С. Алисиевич, утверждающая со ссылкой на статью 15, пункт 4, Конституции РФ, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией, являются составной часть правовой системы России» [1, с. 5]. Отметим единство правоведов, указывающих на принципиальную необходимость систематического описания и унификации терминологии в разных отраслях права. Базовые расхождения разноязычной юридической терминологии коррелируют с разными особенностями правовых устройств стран, представители которых вступают в межъязыковую профессиональную коммуникацию.
Сложность юридической терминологии как объекта исследования обусловливает целесообразность её описания в рамках правовой лингвистики, нацеленной на использование парадигмы лингвистики и призванной максимально учитывать особенности правовых систем, объективированных в том или ином языке права.
Одним из широко употребимых в международных и российских СМИ терминов права является банкротство . Вместе с тем, в правовых терминосистемах разных стран, в частности, Англии, Франции и США, понятие банкротство понимается по-разному [5]. Это исключает, казалось бы, полную, предсказуемую и понятную международную омонимию терминов банкротство – banqueroute – bankruptcy . Рассматриваемое нами русское понятие в нестрого правовом контексте вербализуется в английском языке через термин bankruptcy . Однако это понятие во французском не лексикализовано субстантивно: в нём отсутствует монолексема, подобно русскому и английскому. Французским соответствием термину банкротство является вовсе не banqueroute , а выражение cessation des paiements → (букв.) прекращение платежей . Под cessation des paiements понимается положение, при котором должник не располагает свободными денежными средствами для погашения подлежащих уплате долгов. Подчеркнём, что именно cessation des paiements выступает во французском праве эквивалентом российскому термину банкротство . Термин banqueroute во Франции является гиперонимом, обозначая лицо, совершившее такие правонарушения, как, например: присвоение или сокрытие активов должника, умышленное завышение задолженности должника, ведение фиктивного бухгалтерского учета (предусмотрено статьей L.654-2 Коммерческого кодекса Франции [13, с. 514]. В России подобные деяния квалифицируются как преднамеренное банкротство или неправомерные действия при банкротстве (статьи 14.12 и 14.13 КоАП РФ [14]; статьи 195 и 196 УК РФ [15]).
В английском языке имеется целый ряд сополагаемых вариантов, предложенных двуязычным специализированным «Финансовом словарем»: bankruptcy , insolvency, business failure, commercial failure, financial distress, inability to pay, default [19, с. 32]. Важно сделать несколько детализирующих пояснений. В частности, укажем, что в праве США термин bankruptcy означает несостоятельность как физических, так и юридических лиц, за исключением некоторых организаций, как то: железные дороги, банки, страховые организации [18], в отношении которых предусмотрены специальные процедуры и положения. Вследствие этого в отношении данных организаций корректным эквивалентом банкротства является термин insolvency , а не bankruptcy .
На первый взгляд, среди перечисленных выше англоязычных вариантов одним из наиболее обобщающих, концептуально объемлющих, эквивалентов представляется гиперонимическое сочетание: financial distress , а также детализирующий гипоним – inability to pay [там же]. Возможны также варианты: payment default, default on liabilities / [financial] obligations и ряд других. Анализ возможностей эквивалентной трансляции понятия банкротство со всей очевидностью показывает строгость учёта семного состава понятия, в частности его инвариантной семантемы или набора таковых. В частности, наличие таких словарных вариантов, как business failure, commercial failure , и сопоставление их в трехязычном формате позволяет говорить о том, что в трёх рассматриваемых языках понятие банкротство изначально появлилось именно как обозначение неплатежеспособности , а затем обрело ещё и переносное значение, объективирующее семантему полный крах в какой-либо сфере . Возможно предположить с большой долей вероятности, что эквивалентные межъязыковые соответствия для понятий типа банкротство могут быть лишь аппроксимированными. Под аппроксимацией понимается приближенное выражение какой-либо величины, в нашем случае понятийного содержания термина, через другие, более простые единицы (на основе [20, с. 73]). Простыми единицами выступают «кирпичики» смыслового содержания термина – семантемы.
Основное отличие юридического понимания банкротство от его неюридического понимания состоит, как и во всех иных случаях разночтений и альтернативных пониманий, в апперцепционной базе2, или наборе пресуппозиций как фоновых знаний участников межъязыковой коммуникации. Отметим, что трудно представить схожие апперцепционные базы даже у одноязычных участников коммуникации, входящих в один круг профессионального общения.
В контексте наших рассуждений уместно сослаться на мнение юриста-международника В.И. Евинтова, полагавшего, что «объемы значений эквивалентных терминов совпадают лишь в ограниченном числе случаев, а в большинстве своем не совмещаются по всем признакам передаваемых понятий» [7, с. 39]; «юридическая однозначность не означает однозначности языковой » 3, а «для обеспечения правовой аутентичности текстов на разных языках необходимо стремиться находить не обязательно однозначные термины, но семантико-правовые эквиваленты на разных языках», соответствующие друг другу в рамках определённого контекста [там же]. В самом деле обращение за англоязычным эквивалентом к специальным двуязычным лексикографическим изданиям авторитетных авторов показывает, что установление понятийного сходства – это не автоматическая и не рутинная задача, а скорее длительная аналитическая работа по сравнению – пусть даже точечному – понятийно-категориальных аппаратов требуемой отрасли права или ряда смежных отраслей.
Одной из важных презумпций в поиске эквивалентных отношений между правовыми понятиями, даже позиционированными как международные или транснациональные, является идентификация семантического инварианта для разноязычной терминологии. Пример с понятием банкротство , фонологически опознаваемым во многих языках, позволяет показать, что в Англии, Франции и США профессиональное значение у омонимичных терминов только одно. Однако во всех трёх странах этот юридический смысл – связанный законодательным, доктринальным или судебным контекстом употребления – имеет различия: в Англии это неплатежеспособность физических лиц ; в США – процедуры урегулирования неплатежеспособности как физических лиц, так и предприятий , а во Франции – правонарушения, т.е. неправовые деяния, связанные с несостоятельностью 4. Таким образом, международная омонимия для рассматриваемого понятия оказывается в определённой степени ложной, а семный состав «эквивалентных» терминов, не совпадает по ряду важных семантем.
Попутно обратимся к канадскому юристу-лексикографу У. Флинну, который в лаконичном толковом словаре определяет банкротство следующим образом: bankruptcy – a judicial proceeding to distribute assets of an insolvent person 5 to his creditors. The bankrupt is then relieved of further liability even if the creditors receive less than who recompense [21, с. 9] . Доминирующей семантемой здесь выступает «неплатежеспособность», вокруг которой происходит наращивание дополнительных смысловых опор. Дополнительные смысловые опоры разворачивают семантическую структуру однословного термина в событие, референтное схемно-сценарному формату репрезентации смысла (о форматах репрезентации в связи с обманчивостью несложных по своей структуре номинаций, недооцениваемую разноязычными коммуникантами, см. [4]).
Кажущаяся лёгкость понимания широко употребимого понятия банкротство достаточно обманчива: он не имеет предметного значения, абстрактен и, вследствие этого, соотносим в каждой системе права, и соответственно в каждом языке права, с целым набором не во всём совпадающих семантических единиц. Как таковое, рассматриваемое понятие может быть отнесено к объектам сложного референциального знания (по О.Т. Йокояме [10, с. 125]. При отстутствии в сопоставляемых правовых системах единого референциального признака, указывающего на банкротство и детерминирующего семантическую вершину понятия, установление конгруэнтности терминов-номинантов в трёх языках остается не рутинно решаемым вопросом.
При этом банкротство , несомненно, подпадает под одно из понятий общего терминоведения, о котором вслед за А.В. Суперанской [12] пишет С.Ю. Бабанова, а именно под транстерминологизацию [2, с. 309]. И действительно, банкротство – межотраслевой термин права и международное правовое понятие, при этом одновременно детермини-логизированное и широко употребимое в СМИ и обыденном общении.
Справедливо мнение Н.К. Гарбовского об определённой идеализации нелингвистами возможностей языков «точно» фиксировать смысл в межъязыковых переходах. Переводовед, в частности, утверждает:
«… требование сохранения некой “точности” перевода, некоего тождества информации представляется сомнительным. Это идеалистическое стремление разрушается представлениями об асимметрии языковых картин мира, о различном членении действительности языками, сталкивающимися в переводе, о семантической и функциональной асимметрии, о различных тенденциях языкового общения, проявляющихся, в частности, в стремлении одного языка использовать более конкретные обозначениям там, где другой использует более общие, и наоборот» [6, с. 100].
Близкого мнения придерживается отечественный филолог Н.К. Рябцева [11]. Таким образом, содержание и объём рассмотренных нами выше, на первый взгляд, аналогичных общеправовых понятий в качестве международных омонимов как «готовых» эквивалентов, не подтверждается при анализе терминов в парадигме правовой лингвистики, т.е. с учетом набора входящих в сопоставляемые правовые понятия семантем, заданных национальными законодательствами, научными доктринами и (или) судебной практикой стран с разными правовыми системами. Нахождение полностью сопоставимого набора семантем представляется достаточно иллюзорной перспективой, достижение которой вряд ли возможно с учётом ограничений, перечисленных нами выше. Выявление семного состава термина возможно только при изучении соответствующих источников права, что выходящит за границы лексикографические описания. Данное обстоятельство со всей определённостью ставит разноязычных комммуникантов перед необходимостью поиска межъязыковых соответствий для правовых понятий посредством аппроксимированного подхода, критерии и алгоритмы реализации которого подлежат дальнейшему глубокому изучению.
Парадигма правовой лингвистики – это широкая лингвистическая парадигма, призванная содействовать изучению одного из наиболее сложных специальных языков – юридического языка в разнообразных межъязыковых комбинациях.
В заключение отметим: рассмотренные выше и многие другие примеры позволяют утверждать, что принятое в общей теории перевода понятие «переводческие соответствия» в приложении к межъязыковым переходам из одной юридической терминосистемы в другую обоснованно преобразуется в некоторый набор «аппроксимаций» [3].
Цитируемые источники
Словарно-энциклопедические издания
«BANKRUPTCY» CONCEPT