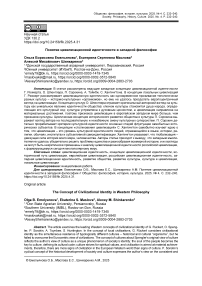Понятие цивилизационной идентичности в западной философии
Автор: Емельянова О.Б., Маслова Е.С., Шинкаренко А.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены ведущие западные концепции цивилизационной идентичности Г. Рюккерта, О. Шпенглера, П. Сорокина, А. Тойнби, С. Хантингтона. В концепции локальных цивилизаций Г. Рюккерт рассматривает цивилизационную идентичность как одновременное проживание типологически разных культур - историко-культурных «организмов», но ему не удалось преодолеть европоцентричный взгляд на цивилизации. Концепция культур О. Шпенглера отражает оригинальный авторский взгляд на культуру как уникальное явление идентичности общества: ключом культуры становится душа народа, определяющая его культурный код; культура устремлена к духовным ценностям, а цивилизация направлена на материальные достижения, поэтому признаков цивилизации в европейском западном мире больше, чем признаков культуры. Циклическая концепция исторического развития общества и культуры П. Сорокина выражает взгляд автора на последовательную и неизбежную смену культурных суперсистем. П. Сорокин детально прорабатывает критерии культурной идентичности основных стадий флуктуации самобытных исторических субъектов. В концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтон самобытно изучает идею о том, что цивилизация - это уровень культурной идентичности людей, отражающийся в языке, истории, религии, обычаях, институтах и субъективной самоидентификации. Хантингтон указывает, что глобализация - движущая сила истории всего мира, человечества. Авторы статьи приходят к выводу, что западным мыслителям не удалось убедительно решить проблему единства и разнообразия всемирной истории, и их взгляды не могут быть некритически применены к анализу цивилизационной идентичности российской цивилизации, к формирующемуся сегодня многополярному миру.
Цивилизационная идентичность, концепции цивилизационной идентичности, исторический путь цивилизации, европейская цивилизация, российская цивилизационная идентичность, западная цивилизационная идентичность, развитие общества, развитие культуры, культура и цивилизация, локальные цивилизации
Короткий адрес: https://sciup.org/149148145
IDR: 149148145 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2025.4.31
Текст научной статьи Понятие цивилизационной идентичности в западной философии
2Южный университет (ИУБиП), Ростов-на-Дону, Россия , , ,
,
,
,
Актуальность . Любая цивилизация предполагает внутреннее самоопределение ее концептуальных основ, которые включают политические, экономические, религиозные, идеологические компоненты. Имманентная выраженность цивилизации достаточно зримо отражена в концепте «цивилизационная идентичность», который становится базовым для осмысления духовного, культурно-исторического самосознания членов общества, самоощущения в принадлежности к тому или иному типу общественного сознания.
Современная Россия определила свой самобытный путь цивилизационного развития, и именно поэтому остро возникает необходимость изучения западных концепций цивилизационной идентичности, поскольку только через сравнительный анализ прочнее приходит осознанность неповторимого пути нашей страны в мире. Очевидно, что концепт «цивилизационная идентичность» закрепляет важнейшие бытийные основы, воспринимаемые как базовые категории государственности, ведь цивилизационные структуры отличает высокая степень константности по сравнению со структурами политическими, идеологическими, культурными. Но именно в эпоху глобальных перемен, важнейших исторических событий решение данного вопроса помогает в принятии правильных решений в направлении развития государства как оплота цивилизации.
Цель статьи – проанализировать ведущие западные концепции цивилизационной идентичности и определить их эвристический потенциал для российского общества, которое в текущий период находится в поисках адекватных ответов на глобальные вызовы эпохи.
Методологической основой представленной работы стали труды по изучению концепций цивилизационной идентичности западного общества Л.И. Карповой, А.А. Горелова, Т.А. Горелова, А.Ф. Поломошнова, П.А. Поломошнова, В.Т. Фаритова и др. Предметом исследования стали концепции цивилизационной идентичности Г. Рюккерта, О. Шпенглера, П. Сорокина, А. Тойнби, С. Хантингтона. В статье используется метод сравнительного критического анализа концептуальных подходов к исследованию «цивилизационной идентичности» в западной философии истории.
Концепция локальных цивилизаций Г. Рюккерта . Впервые теоретические основы изучения цивилизаций были определены немецким историком Генрихом Рюккертом в 1857 г. в двухтомнике «Учебник всемирной истории в органическом изложении», где ученый сформулировал теорию локальных цивилизаций как неповторимых культурных миров. Рюккерт утверждал, что историческая эволюция не представляет собой всеобщее движение стран по единому пути, а, напротив, выступает как совокупность вариантов развития разнообразных видов культур, осуществляющихся единовременно, самобытно и имеющих свою историческую дорогу (Карпова, 2005: 74). Виды культур синонимичны, по Рюккерту, понятиям «государство» и «народы».
Генрих Рюккерт оценивал цивилизационную идентичность как одновременное проживание типологически разных культур, которые он называл историко-культурными «организмами». Философ заключил, что исторический путь цивилизации, человечества представляет собой объединение таких процессов, рассматривать которые на равных не представляется возможным. Например, он отделил в качестве абсолютно неповторимых культурно-исторических «организмов» православно-славянский и западно-европейский типы культур. Каждый культурный тип, по Рюккерту, развивается неповторимым путем, то есть закономерно рождается, уникально, самобытно живет, развивается, движется в своем направлении и неизбежно угасает. Гибель разных форм культурноисторических «организмов» – неотъемлемый и закономерный процесс истории (Rückert, 2018).
Отметим, что Рюккерт был первым, кто акцентировал взгляд на проблеме цивилизационных границ, их проникновения друг в друга, взаимодействия внутренних систем. По сути, он создал полилинейную историческую концепцию, и именно поэтому не рассматривал человечество как единство народов, подчеркивая самостоятельность, отделенность одних народов от других. Интересно, что Рюккерт своей концепцией поставил вопрос об отсутствии исключительности европейской цивилизации и отметил разрушительное воздействие идеи исключительности на куль- туру других цивилизаций. Он сопоставил влияние европейской цивилизации на другие культуры с некогда варварским воздействием их на народы Южной Америки, приведшие к гибели их самобытных культур: «Если отдельная культура пожелала предстать абсолютом среди иных неповторимых культур, то она справилась бы с этим тогда, когда очевидно сокрушила такую же культуру, как и она» (Rückert, 2018). Европоцентризм, по взглядам Рюккерта, весьма преувеличен: «Его теория локальных цивилизаций изменила восприятие картины мира, так как неевропейские культуры обрели свой самостоятельный статус, а европейская цивилизация стала лишь одной из них» (Карпова, 2005: 76). Однако своей концепцией локальных цивилизаций Рюккерт не смог «уравнять» статус европейской и иных цивилизаций. На это указывает Ю. Семенов, говоря о неоднозначности концепции немецкого философа: «Противореча себе, он одновременно говорит о человеческом прогрессе, о всеобщих стадиях культуры. В результате он размещает культурные типы вообще, высшие культурные типы в частности на разных ступенях развития. Наименее развит из числа последних индийский тип, более прогрессивен китайский тип, еще выше стоит арабский, следующий ‒ восточно-христианский, а самый высокий ‒ германо-христианский»1. Г. Рюккерт приходит к выводу: несмотря на то, что можно выделить несколько линий исторического развития, однако все же среди них первична одна, главенствующая над иными, ‒ речь идет о Западной Европе и ее уникальном развитии. Рюккерт также утверждает, что именно западноевропейская цивилизация в основном поддерживает идею общечеловеческого.
Как видим, теория локальных цивилизаций Рюккерта полна противоречий. Немецкий философ так и не сумел разграничить равноценность и самодостаточность как противоположные подходы к рассмотрению цивилизаций, а также, несмотря на свои заявления о вреде исключительности, все же рассматривал цивилизации как результат эффекта влияния Европы. Рюккерт не смог преодолеть субординационное видение цивилизаций, отдавая первенство и главенство над всеми Европе. Своей концепцией он как будто отказал другим цивилизациям в цельности, самостоятельности и независимости развития.
Концепция культур О. Шпенглера . Оригинальный взгляд на цивилизацию предложил Освальд Шпенглер в 1918 г. в исследовании «Закат Европы», назвав цивилизацию «фазой старения и гибели культуры» (Шпенглер, 1998: 163). Шпенглер воспринимал общее движение жизни общества как смену циклов, каждый из которых представлен разными культурами. Стадии проживания культур всегда схожи: «мифо-символическая (появление ключевых форм культуры), стадия ранней культуры (возникновение её форм), стадия метафизико-религиозной или высокой культуры (расцвет культуры) и стадия цивилизации (завершение)» (Карпова, 2005: 75). Философ оригинально и метафорически выражал свой особый взгляд на цивилизацию как на новый виток, характеризующийся исчезновением одной культуры и появлением другой: «Культура рождается в тот миг, когда из пра-душевного состояния вечно-младенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа... Культура умирает, когда эта душа получает уже полную сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств, государств, наук... культура внезапно коченеет, отмирает, её кровь свертывается, силы надламываются – она становится цивилизацией» (Шпенглер, 1998: 268). Все это приводит к разрыву мировой истории и культуры.
Несмотря на неизбежную гибель, по мнению немецкого философа, каждая культура представляет собой уникальное явление, отражающее идентичность общества. Ключом культуры, по Шпенглеру, становится душа народа , то есть некая всеобщая душа, определяющая его культурный код: «…великие события истории… совершены народами не были, но скорее породили на свет их самих» (Шпенглер, 1998: 268). Душа народа исходна, а сам народ вторичен в сравнении с ней и неизбежно реализует ее волю. «Пра-душа» народа совершает свой уникальный выбор «перво-символа», основы его формирования. Шпенглер определяет культуру как единство возможности и действительности. А все ее элементы формируют условия, в которых живет народ. Как возможность культура произрастает в душе народа и вбирает собственную картину мира последующего существования. В качестве действительности она проявляется в множественных структурах: лингвистических, образных, философских, поэтических, политических и т. д. Такие структуры, выступающие формами выражения культуры, обусловливают ее внутреннее наполнение: «Душевность каждой живой культуры религиозна, имеет религию, сознает ли сама она это или нет. Ее религия в том, что она вообще существует, становится, развивается, свершается» (Шпенглер, 1998: 606).
Душа народа созидает подлинные и уникальные факты в разнообразных бытийных проявлениях: общественных, философских, литературных, музыкальных, научных, теологических. Личность, взращенная в конкретной культуре, иные культуры не приемлет, она не способна адекватно декодировать их, а значит, и воспринять их элементы и ценности. Мироощущение, заложенное в культуре, открыто только тому, чья душа включена в данную культуру.
Проявление души народа как идентичности культуры Шпенглер описывал метафорически: античная культура зиждется на «аполлоновской» душе, арабская ‒ на «магической», западная ‒ на «фаустовской»: «Каждая ограниченная в своей значимости рамками одной культуры» (Шпенглер, 1998: 575). Так, Шпенглер в качестве примера образно изображает появление Западной (фаустовской) души в Х в.: «Из саксов, швабов, франков, вестготов, лангобардов внезапно возникают немцы, французы, испанцы, итальянцы» (Шпенглер, 1998: 173). И крестовые походы, и широкое развитие экономических отношений, и захват новых территорий, и попытка построить общество, покорное идеям императорских династий, – все это и многое другое есть проявления фаустовской западноевропейской души, которая породила народы Запада. Неповторимость фаустовского Шпенглер видит в «…гигантском отрицании так или иначе ограниченного чувства родины… Такого не знает ни одна другая культура…» (Шпенглер, 1998: 523).
Идентичность Шпенглер описывал как неповторимый код, характеризуемый специфическим мировоззрением народа, складывающимся в особых условиях той географической полосы, в которой народ проживает. «Перво-символом» любой культуры выступают особые формы и хро-нотопические системы. Именно «перво-символ», как считал Шпенглер, транслирует духовнонравственный посыл всей культуры: «Не только внешние архитектурные формы или нормы права, но и сами понятия, которыми описывается реальность, отражают уникальность каждой культуры» (Демидов, 2013: 318). Цивилизация суть завершение цикла развития культуры, ступень ее распада, что порождает в обществе аннексию, рационализм, алчность, узурпаторство, рациональное мышление.
Изыскания Шпенглера представляют интерес с точки зрения осмысления сегодняшней действительности. Шпенглер предсказывал закат Западной – фаустовской ‒ цивилизации: «Нам предстоит еще пережить последний духовный кризис, который охватывает весь европейско-американский мир» (Шпенглер, 1998: 624).
По Шпенглеру, культура непрактична, потому что устремлена к духовным ценностям, в то время как цивилизация направлена на конкретные достижения. Она ширится в пространстве, склонна к увеличению размеров, поэтому людскими мотивами становятся деньги и власть. Шпенглер пришел к выводу: поскольку понятия «культура» и «цивилизация» различаются, можно говорить, что признаков цивилизации в европейском западном мире больше, чем признаков культуры, и, следовательно, внимание людей направлено на власть, финансовую составляющую, то есть на ценности не духовные, а материальные. Именно поэтому он предрек гибель Европы как самобытной культуры к 2000-м гг. Шпенглер доказательно обосновал симптоматику, признаки кризиса, к которому неизбежно приходит любая цивилизация, достигшая расцвета.
Циклическая концепция исторического развития общества и культуры была описана в труде «Социальная и культурная динамика» (1937–1941) Питиримом Сорокиным (1996). Эта концепция отличается одновременно системностью и сложностью восприятия автором концепта «цивилизационная идентичность» и историческим подходом к исследованию исторического развития общества. Базовым элементом модели развития общества и культуры Сорокин определил принцип цикла. Согласно его видению, в истории каждой цивилизации последовательно и неизбежно сменяют друг друга культурные суперсистемы. И каждая культура неизбежно проявляется как идеациональная или чувственная . «Вероятно, ни идеациональный, ни чувственный типы культур никогда не существовали в чистом виде, но все интегрированные культуры в действительности оказываются состоящими из различных соединений этих двух чистых логикосмысловых форм» (Сорокин, 2006: 54). Гармоничное соединение двух названных форм порождает иную культуру, которую автор классифицирует как идеалистическую . Фаза идеациональная (сверхчувственная) базируется на религиозной идее и господствует в период Средневековья, когда идеалом являлась устремленность к спасению души. Чувственная (сенситивная) фаза характерна для индустриальной ступени развития человечества и основана на материализме и мысли об удовлетворении материальных страстей человека, стремлении к роскоши, наслаждению, комфорту, где высшей формой культуры выступают богатство, комфорт, господство личных страстей. Идеалистическая фаза возникает на основе синтеза религиозного и материалистического мышления, что характерно для последней стадии индустриализма.
На каждой из этих стадий Сорокин характеризует цивилизационную идентичность культуры, используя комплекс критериев. Одним из основных критериев является тип ментальности культурной системы. Тип ментальности определяется способом восприятия реальности и ориентации поведения людей. То есть ментальность культуры определяется следующими параметрами: 1) сущностью реальности – оригинальным пониманием окружающего, внешнего мира; 2) сущностью целеполагания и потребностей; 3) уровнем удовлетворенности этих потребностей; 4) формой удовлетворения (Сорокин, 2006: 110).
К числу дополнительных характеристик идентичности определенного исторического типа культуры относятся: 1) тип мировоззрения; 2) способ контроля над поведением личности; 3) тип активности личности; 4) тип самосознания личности; 5) форма знания; 6) форма истины; 7) тип моральных ценностей; 8) тип эстетических ценностей; 9) тип социальных и практических ценностей (Сорокин, 2006: 123). Все эти дополнительные характеристики логически и функционально коррелированы с общим типом культурной ментальности.
Главной особенностью понимания цивилизационной идентичности у П. Сорокина является волнообразная цикличность смены трех типов культуры, характерная для всех самобытных народов и цивилизаций, но проявляющаяся у каждой из них в специфических формах. Для характеристики трех исторических типов цивилизационной идентичности как стадий развития культуры П. Сорокин разработал комплекс соответствующих характеристик по основным критериям на историческом материале Западной цивилизации.
Для характеристики флуктуаций исторических типов культуры в сфере ментальности П. Сорокин выделил шесть типов эпистемологических систем: эмпиризм, рационализм, мистицизм, скептицизм, фидеизм и критицизм. Затем Сорокин связывает эту классификацию с тремя стадиями культурной флуктуации: «Идеациональный или религиозный рационализм, мистицизм и фидеизм воплощают в себе главным образом истину веры; идеалистический рационализм – истину разума; эмпиризм – в основном истину чувств» (Сорокин, 2006: 296).
Для характеристики флуктуаций в сфере эстетических ценностей и ориентаций Сорокин применяет особую классификацию форм искусства. В нем он выделяет три основных типа или стиля, соответствующие трем основным типам культурной ментальности: идеациональный, визуальный и идеалистический. Идеациональный стиль имеет своим предметом сверхэмпирический мир и использует для его художественного воспроизведения чисто символические художественные формы. Визуальный (чувственный) стиль обращается к эмпирической реальности и использует реалистические формы искусства. Идеалистический стиль представляет собой гармоническое сочетание первых двух. «Идеалистический стиль является одновременно идеацио-нальным и визуальным. По форме изображения предметов это искусство визуальное, но не полностью… Оно идеализирует, изменяет, типизирует и преобразует наблюдаемую реальность в соответствии с идеалами и идеями» (Сорокин, 2006: 136).
Характеристика флуктуаций в сфере нравственных ценностей основана у П. Сорокина на классификации типов этики. Идеациональной культуре у Сорокина соответствует этика долга, имеющая две разновидности: этика абсолютных норм и этика счастья. Чувственная культура основана на этике счастья, имеющей три разновидности: гедонизм, утилитаризм и эвдемонизм. Идеалистическая культура представляет собой идеалистическую этику, являющуюся гармоническим сочетанием идеационной этики абсолютных норм и эвдемонизма как разновидности чувственной этики счастья.
Отдельный набор критериев идентичности стадий флуктуации культуры связан у Сорокина с характеристикой типа социальных отношений. Социальные отношения определяются как качественными, так и количественными параметрами. К предмету качественного анализа он относит общую форму социальных отношений, формы социально-политического режима и свободы. К предмету количественного анализа ‒ степень государственного контроля над социальными отношениями, степень автономности негосударственных социальных институтов, экономические условия социальных отношений.
В процессе анализа социальных флуктуаций Сорокин стремится растворить во второстепенных, абстрактных признаках социальных отношений их действительную объективную сущность, и заменить абстрактным описанием флуктуаций социальных отношений анализ объективных закономерностей их развития. Исследуя флуктуации типов социальных отношений, Сорокин выделяет три основных их вида. Первый из них ‒ семейственный ‒ характеризуется всеобъем-лемостью по уровню интенсивности, протяженностью по времени и солидарностью по направленности. Второй ‒ договорной тип отношений: «1) Он четко ограничен по экстенсивности жизнедеятельности сторон, вовлеченных во взаимодействие. 2) Что касается интенсивности, то она может быть высокой или низкой в зависимости от характера “договорного сектора” активностей, но этот сектор всегда ограничен… 3) Ограничена и его продолжительность, которая опять-таки определяется договором. 4) В пределах “договорного сектора” этот тип социальной связи является солидарным…» (Сорокин, 2006: 549). Договорные отношения Сорокин рассматривает как чувственно-эгоистические. Третий тип ‒ принудительные отношения, характеризующиеся следующими особенностями: 1) внутренней антагонистичностью; 2) лишением свободы угнетенной стороны и предоставлением свободы угнетающей; 3) взаимной отчужденностью обеих сторон этих отношений, которая иногда может доходить до неограниченной жестокости (Сорокин, 2006: 563). Сорокин утверждает, что в любой период истории имеется сочетание всех трех типов социальных отношений, но преобладает всегда один из них.
В основу анализа флуктуаций политических режимов Сорокин кладет два признака: тип личности управляющих государством людей и характер властного авторитета. Соответственно этим критериям он выделяет три типа социально-политического режима: 1) идеациональный режим ‒ власть принадлежит личностям и группам, воплощающим в себе идеациональные ценности, т. е. духовенству, по характеру властного авторитета – это теократический режим; 2) чувственный режим ‒ власть принадлежит людям чувственного типа, т. е. «создателям и блюстителям наиболее значимых чувственных ценностей», по характеру властного авторитета – это светский или секулярный режим; 3) идеалистический режим является смешанным типом ‒ отчасти теократическим, отчасти чувственно-секулярным (Сорокин, 2006: 591).
Сорокин констатирует корреляцию культурных флуктуаций с флуктуациями типов социальных отношений и социально-политических режимов. А именно, идеациональная культура связана с семейственным типом социальных отношений и теократическим социально-политическим режимом. Чувственная культура характеризуется договорными и принудительными социальными отношениями, а также секулярным социально-политическим режимом. Идеалистическая культура как неопределенная гармоническая смесь идеациональной и чувственной культур связана с такими же неопределенными гармоническими смесями соответствующих типов социальных отношений и социально-политических режимов (Сорокин, 2006: 591). И здесь мы видим последовательно проводимый схематизм подтасовки реальной социально-политической истории европейской цивилизации под вымышленный Сорокиным ритм социокультурных флуктуаций.
При анализе флуктуаций свободы Сорокин начинает со своего оригинального определения этого понятия. Свобода по Сорокину – это некая дробь, в числителе которой находится сумма возможностей для удовлетворения потребностей личности, а в знаменателе ‒ сумма потребностей личности. Личность свободна, если числитель больше знаменателя, и не свободна, если числитель меньше знаменателя (Сорокин, 2006: 625). На основе этого определения Сорокин выводит три типа свободы или три типа пути к свободе: 1) идеациональная свобода, или идеацио-нальный путь, состоит в ограничении, уменьшении потребностей до тех пор, пока они не сравняются или не станут меньше возможностей; 2) чувственная свобода, или путь к свободе, состоит в увеличении возможностей до тех пор, пока они не сравняются или не превзойдут потребности; 3) смешанный тип (сочетание первого и второго), или редкое равновесие возможностей и потребностей. Сорокин постулирует корреляцию определенного типа свободы с соответствующим типом культуры. Так, для идеациональной культуры характерна идеациональная свобода, для чувственной ‒ чувственная свобода, для идеалистической ‒ гармоническая смешанная свобода.
Хотя критерии культурной идентичности трех основных стадий флуктуации самобытных исторических субъектов были детально проработаны, согласимся с П.А. Поломошновым, что метод философа, несмотря на его уникальность, детальность и историзм, все же «не позволяет воспроизвести реальные исторические закономерности развития исторического субъекта как культурной суперсистемы, поскольку он подменяет действительный причинный анализ исторических процессов пустой идеей взаимной корреляции этих процессов» (Поломошнов, 2009: 168). Проблема цивилизационной идентичности самобытной цивилизации не получает у П. Сорокина эффективного разрешения потому, что он «...создает такую абстрактную и эластичную модель исторического процесса, под которую можно успешно подогнать любые исторические факты. Но эта модель не способна воспроизвести исторический процесс в его действительной внутренней закономерности» (Поломошнов, 2009: 168).
Еще одной яркой западной версией концепта цивилизационной идентичности стала концепция Арнольда Джозефа Тойнби (1889‒1975). Его специфический цивилизационный подход был впервые представлен в 1922 г. в труде «Западный вопрос в Греции и Турции. Изучение контакта цивилизаций» (Тойнби, 1996) и позже ‒ в объемном труде «Постижение истории» (1934– 1961) (Тойнби, 2001). Тойнби предложил собственное определение концепта «цивилизация», рассматривая локальную, уникальную цивилизацию как ключевую единицу развития истории: «Цивилизация – это тип человеческого сообщества, ассоциирующийся с определенной религией, нравами и художественной культурой» (Тойнби, 2001: 245). Тойнби рассматривал цивилизацию как социокультурный факт, ограниченный своеобразным хронотопом, проживающий стадии появления, поступательного развития, надлома, разложения и распада, гибели.
Тойнби создает и собственную концепцию цивилизационной идентичности: «Критерием развития цивилизации и ее роста выступает не совершенствование материальной культуры, а ее самоактуализация и эффективный ответ на внешний вызов» (Тойнби, 2001: 267). Главными компонентами цивилизационной идентичности, по его мнению, выступают следующие: культура, вероучение, исторический процесс, общий языковой код, традиции (Тойнби, 2001: 237). Тойнби заявляет о естественной саморефлексии нации в сравнительном анализе собственных черт с чертами других народов. Эта саморефлексия нации формируется посредством самоотождествления себя как уникальной культурной единицы, а также с помощью сравнения собственной нации с другими народами. Национальные черты не обладают свойством подвижности, а, напротив, характеризуются стабильностью и предсказуемостью. Кроме того, цивилизационная идентичность отражает и политический, и культурно-этнографический компоненты. При этом базисом жизнедеятельности всякой цивилизации становится ее самоотождествление, самоидентификация, аксиологические принципы, духовно-нравственный контекст, традиционность ее устоев (Тойнби, 2001: 250).
Тойнби делает весьма важное наблюдение и о том, что внутренний раскол идентичности может привести к деструктивным явлениям: возникновению процессов вырождения культурного потенциала, разобщению цивилизационных компонентов, деградации национального и этнического уровней, их функционированию и универсализации.
При рассмотрении локальных цивилизаций Тойнби решается восстановить идею целостности мировой истории через религиозный контекст: «История позволяет видеть божественную творящую силу в движении» (Тойнби, 2001: 310). Как считает философ, исторический процесс поступательно и непрерывно меняется от самых простейших, примитивных обществ к разным цивилизациям. Во всех этих цивилизациях рождаются самостоятельные верования: «Каждая из них обращается к человеческой душе, побуждая ее стремиться к подобию Божию… душа, озаренная светом высшей религии, в большей мере и более остро ощущает существование иного мира, иной реальности, сознавая бренность своей быстротекущей жизни. Сознавая это, душа, озаренная высшей религией, может достигнуть большего в благоустройстве земной жизни, чем душа языческая» (Тойнби, 2001: 328). Для Тойнби развитие исторического процесса проявляется в приближении людей к высшей силе. То есть возникновение всех религий – самый главный результат развития цивилизаций, а специфика религии определяет идентичность самой цивилизации. В идеале исторический процесс должен приводить к высшей ступени человеческого существования – улучшению духовного мира людей, достижению особой ступени усовершенствования духа, которую Тойнби классифицирует как сверхчеловеческую. При этом философ акцентирует внимание на том, что данной ступени пока не суждено было достичь тем цивилизациям, которые ему были известны: «Это преображение человеческого вида, наступившее в середине палеолитического периода, возможно, было самым эпохальным событием человеческой истории и остается таковым вплоть до настоящего времени, ибо в тот момент Предчеловек сумел превратиться в Человека, но Человеку так и не удалось с тех пор выйти на сверхчеловеческий уровень, как бы он к тому ни стремился» (Тойнби, 2001: 415).
Таким образом, цивилизационная концепция А. Тойнби стала неким обоснованием мировоззренческих убеждений философа о преображении, совершенствовании, улучшении человека как цели исторического движения жизни. Однако реальная история локальных цивилизаций в описании А. Тойнби эту сверхцель истории никак не подтверждает.
Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона . В 1996 г. американский социолог, политолог Сэмюэл Филлипс Хантингтон создает фундаментальный философский труд « Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка», в котором исследуется авторское видение истории в период после окончания холодной войны. Эта книга стала продолжением более ранней его работы «Столкновение цивилизаций?», опубликованной в 1993 г. в журнале «Международные отношения» (Foreign Affairs)1. Автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций выдвигает идею о том, что цивилизация – это «культурная общность наивысшего ранга, самый широкий уровень культурной идентичности людей» (Хантингтон, 1994: 34). «Деревни, регионы, этнические группы, народы, религиозные общины ‒ все они обладают своей особой культурой, отражающей различные уровни культурной неоднородности...: язык, история, религия, обычаи, институты, ‒ а также субъективной самоидентификации людей» (Хантингтон, 1994: 36).
С. Хантингтон выделяет шесть основных групп критериев цивилизационной идентичности: 1) половозрастные, расово-этнические и кровно-родственные аскриптивные черты; 2) культурные принадлежности – клановость, лингвистическая составляющая, национальные черты, вероисповедание, цивилизационные основы; 3) географические – самый ближний круг общения, вид местности, природно-климатическое месторасположение; 4) политико-идеологический контекст – направление интересов, взгляды страны; 5) экономико-профессиональный аспект – вид деятельности, профессиональная направленность, карьера, коллегиальная коммуникация, секторально-экономическое взаимодействие, принадлежность к профсоюзам, кастам, определенной иерархии государства; 6) социальная статусность – взаимодействие по общению, дружба, партнерство, команд-ность, социализация (Хантингтон, 1994: 47).
По Хантингтону, источники цивилизационной идентичности общества указывают, с одной стороны, на устремленность человечества к объединению, интеграции, а с другой ‒ на желание обособления, отделения от других. Эта противоречивость коррелируется с изменчивостью разнообразных ступеней человеческой истории. С. Хантингтон говорит о конфликте государств, сменяемом противоречиями между цивилизационными структурами в борьбе за обеспечение ценностных парадигм и потребностей. Конфликт отражает не противоречия политических и экономических моделей, а столкновение культур цивилизаций. Утверждение и главенство цивилизационной идентичности выступает основной идеей конфликтов. Высшей задачей цивилизационной идентичности становится культурное разграничение, обособленность, уникальность общества.
Важно отметить, что, по мнению С. Хантингтона, всеобщей объединяющей межчеловеческой стратегией выступает глобализация, а наивысшей ее выраженностью ‒ цивилизационная идентичность общества. Глобализация как современный тренд проявлена в качестве коммуникации конкретных цивилизаций, существующих в мире: «западная, исламская, китайская, славянская, индуистская, японская, латиноамериканская и африканская» (Хантингтон, 1994: 56). Глобализации противопоставлена конфликтность цивилизаций, противоречивость ведущих государств. Соответственно, глобализация и противоречия между государствами суть движущая сила истории всего мира, человечества в целом. Об этом противоречии достаточно четко высказалась З.А. Жаде, которая описала процессы глобализации как особые формы противоборства цивилизаций, совершающегося как на военном или экономическом поприще, так и на уровне духовных противоречий. Здесь имеется в виду, с одной стороны, стремление мира к унификации и универсализации, с другой – желание народов сохранить свою социокультурную самобытность (Жаде, 2007: 78).
Выводы . Как видим, западные концепции цивилизационной идентичности отличаются достаточным разнообразием концептуальных подходов к определению локальной цивилизации как субъекта истории и формулировке критериев цивилизационной самобытности локальных цивилизаций. Логика осмысления этой проблемы в западной историософской мысли через ограниченность концепций отдельных мыслителей привела к некоторым конструктивным результатам. Прежде всего, было достигнуто понимание необходимости комплексных критериев идентичности, включающих в себя не только параметры духовной культуры общества, но и его социальной организации и материальной культуры. Во-вторых, был установлен принцип историзма цивилизационной идентичности локальных цивилизаций, сочетающего устойчивость и изменчивость ее содержательных параметров и преемственность их истории. В-третьих, несмотря на настойчиво проявляющийся европоцентризм, западная историософия все-таки пришла к идее плюрализма и хотя бы аксиологического равенства локальных цивилизаций.
Поскольку проблема цивилизационной идентичности решалась западными мыслителями в основном на материале западной же цивилизации, они смогли достаточно глубоко и детально раскрыть историю именно ее динамики идентичности, а специфика и пути развития других цивилизаций оставались на периферии их интереса и не получили такого же глубокого освещения, как западная цивилизационная идентичность.
Западным мыслителям не удалось убедительно решить важнейшую проблему единства и разнообразия всемирной истории, баланса противоположных тенденций глобализации и унификации локальных цивилизаций. Они всегда стояли на позициях явного или скрытого западоцен-тризма, рассматривая именно западную цивилизацию как мирового лидера и образец для менее развитых культур. Именно поэтому западные концепты цивилизационной идентичности не могут быть некритически применены ни к анализу цивилизационной идентичности российской цивилизации, ни к формирующемуся сегодня как историческая альтернатива западнической глобализации многополярному миру.