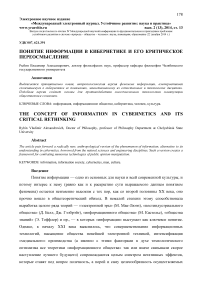Понятие информации в кибернетике и его критическое переосмысление
Автор: Рыбин Владимир Александрович
Статья в выпуске: 2 (13), 2014 года.
Бесплатный доступ
Выдвигается принципиально новая, антропологическая версия феномена информации, альтернативная сложившемуся в кибернетике ее пониманию, заимствованному из естественных и технических дисциплин. Подобная версия создает основы для противодействия многочисленным технологиям манипуляции общественным сознанием.
Информация, информационное общество, кибернетика, человек, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14122282
IDR: 14122282 | УДК: 007,
Текст научной статьи Понятие информации в кибернетике и его критическое переосмысление
Понятие информации — одно из основных для науки и всей современной культуры, и потому интерес к нему (равно как и к раскрытию сути выражаемого данным понятием феномена) остается неизменно высоким с тех пор, как со второй половины XX века, оно прочно вошло в общетеоретический обиход. В немалой степени этому способствовала выработка целого ряда теорий — «электронной эры» (М. Мак-Люэн), «постиндустриального общества» (Д. Белл, Дж. Гэлбрэйт), «информационного общества» (М. Кастельс), «общества знаний» (Э. Тоффлер) и пр., — в которых «информация» выступает как ключевое понятие. Однако, к началу XXI века выяснилось, что совершенствование информационных технологий, насыщение общества новейшей электронной техникой, интенсификация «медиального» производства (а именно с этими факторами в духе технологического оптимизма все теоретики «информационного общества» так или иначе связывали скорое наступление лучшего будущего) сопровождаются целым спектром негативных эффектов, которые ставят под вопрос полезность, а порой и саму целесообразность осуществляемых нововведений: начиная с формирования у современного человека, погруженного в окружающую его информационно перенасыщенную среду, фрагментарного («клипового») сознания, которое делает его неспособным к целостному и системному осмыслению действительности, и, заканчивая изощренным совершенствованием технологий информационного манипулирования людьми, что угрожает перспективой практического воплощения самых мрачных антиутопий XX века. Стало ясно, что «информационное общество» (если, конечно, иметь ввиду его «идеальный вариант») — это не только ускоренное производство новых сведений, оптимизация способов их накопления и трансляции; это еще и некая «антропологическая добавка» в виде качественного развития у живущих в современном обществе людей способности продуктивно использовать эти сведения. Без этой «добавки» накапливаемый «информационный ресурс» на стороне общества неизбежно будет превращаться в «спам», а на стороне индивида — в лучшем случае в «многознание», которое, как известно, «уму не научает».
Все это заставляет критически пересмотреть сложившиеся представления о самой сути феномена информации, требует достижения более глубокого ее понимания и выработки более точного определения.
Поскольку «информация» превратилась сегодня в чрезвычайно широкое понятие, для начала попробуем избавиться от многозначности данного термина через сопоставление определений, взятых из обыденного сознания и из науки. В повседневном, бытовом значении информация — это совокупность сведений, данных, знаний о каких-либо процессах или событиях. Поэтому с обыденной точки зрения вполне правомерно противопоставление «полезной» и «бесполезной» информации, что с научной точки зрения, где информация связывается с получением сведений, несущих новизну или снижающих неопределенность, представляется как раз недопустимым: «бесполезная» информация не способна воздействовать на неопределенность и потому в строгом смысле слова не является информацией. Критерий содержательности на уровне обыденных представлений, таким образом, является менее точным и более оценочным, чем в научном дискурсе.
Казалось бы, последнее слово остается за наукой. Но дело в том, что в самой науке отсутствует единое понятие информации. Так, в естествознании информацией называют: сведения о неизвестных объектах, результат выбора, уменьшаемую неопределенность, значение сигнала, содержание сообщения, сущность, сохраняющуюся при вычислительном изоморфизме, меру сложности структур, меру организованности, а также многое другое.
«Каждое такое определение, если оно применяется в сфере своего действия, верно отображает какую-то сторону или особенность информации. Но всякие попытки универсализации частного определения информации, пригодного для рассмотрения лишь одного из ее аспектов, приводят к ошибочным выводам» [1, с. 64]. Более того, эти определения настолько противоречат друг другу, что М. Кастельс, автор труда «Информационная эпоха», ставшего своего рода библией современных управленцев и экономистов, строит свою теорию на весьма скудном и фактически обыденном определении: «Информация есть данные, которые были организованы и переданы» [2, с. 39].
В современной науке и философии утвердился взгляд на информацию как на один из трех – наряду с веществом и энергией – компонентов бытия [3, с. 6; 4, с. 359]. Вытекающее отсюда определение информации как феномена надмассэнергеического взаимодействия как будто снимает все разночтения, однако, не раскрывает сути явления и требует дальнейшей конкретизации. Движение в этом направлении целесообразно начать с выделения основных подходов и теорий, заложенных в основу современной теории информации, включая их самую общую характеристику.
Наиболее значимы в этом отношении теории связи (выработанные применительно к техническим системам и давшие начало математическому подходу к информации в разных его модификациях) и кибернетические теории (связавшие информацию с процессами управления в машинах, живой природе и человеческом обществе). В теориях связи (У. Шеннон, Л. Бриллюэн, У. Эшби и др.) информация обрела количественное выражение через понятие энтропии: информация повышает степень организованности системы и представляет собой антиэнтропийный (негэнтропийный) процесс. Но при более пристальном рассмотрении становится очевидно, что «информация отнюдь не служит двойником энтропии, даже будучи взятой с обратным знаком» [5, с.165], хотя бы по той причине, что распад как нарастание энтропии происходит сам собой, а наращивание организованности требует усилий: «Самоорганизация, негэнтропийный процесс — это не энтропия наоборот, это качественно другое явление» [6, с. 179].
В кибернетической теории Н. Винера и его последователей утверждается, что процессы в технических системах, живых организмах и социальных организациях носит информационный характер и протекает по одной и той же схеме. Изоморфизм технических (машинных, искусственных неживых), живых (биологических, организменных) и культуральных (человекоразмерных) систем несомненно существует; главный вопрос в том, как его рассматривать — как обоснование редукции или, наоборот, как исходную платформу для различения и последующей конкретизации?
Для начала проведем сопоставление технических и живых (биологических, внечеловеческих) систем, используя элементарную трехкомпонентную кибернетическую схему: передатчик, приемник и канал связи. От передатчика к приемнику передается сигнал или совокупность сигналов, организованных по определенным правилам и образующих сообщения. На стороне приемника это сообщение интерпретируется. И на этом общность технических и живых систем заканчивается. Все дело в характере интерпретации.
В технических системах приемник подвергает сообщение интерпретации на основе заранее принятых соглашений алгоритмического, контекстно-независимого характера. Правила интерпретации здесь исходно заданы, а «неприём» попросту невозможен, иначе не может идти речи об исправности системы. Принципиально иная ситуация в живых системах, где субъект (особь) принимает сообщение, которое с его стороны всегда выступает как контекстно-зависимое . Это значит, что прием сообщения предполагает интерпретацию со множеством вариантов, включая возможность неожиданного изменения правил приема или даже «неприём», когда реакция на информацию может отсутствовать: «Нет никаких основания предполагать, что содержание реакций живых систем на любое воздействие является функцией исключительно от него. Все говорит скорее об обратном» [7, с. 52].
Такая «контекстность», «избирательность», «субъектность» свойственна и культуральным (человекоразмерным) системам с тем только отличием, что человек разумный — одновременно и человек универсальный, следовательно, набор вариантов интерпретации принимаемой им информации, ничем не ограничен, бесконечен. За исключением одного обстоятельства — уровня развития культуры, которая задает человеку, включенному в нее, масштаб его универсальности. Человек, как и животные, вынужден бороться за ресурсы и выживание, тоже должен вести организменное существование, но помимо этой — природной — стороны человеческого бытия есть и другая — связанная с культурой, т.е. с созданием искусственной среды. Поэтому тяжесть усилий, прилагаемых для жизнеобеспечения, не остается у человека неизменной, как у других живых видов, а по ходу исторического развития постоянно сдвигается в сторону снижения за счет создания новых орудий труда в виде техники, машин, автоматов, высвобождающих ресурс для его универсализации. Проблема в том, что долгое время своей истории человек не имел возможности в должной мере развивать — «культивировать» — свою универсальность, что и породило саму возможность (и соблазн) рассматривать человека как подобие животного или машины.
С этой точки зрения главный недостаток кибернетической теории не в том, что как якобы «реакционная лженаука» она «рассматривает психофизиологические и социальные явления по аналогии с электронными машинами и приборами» [8, с. 237], — наоборот, именно в этом ее новизна и ценность, — а в том, что изоморфизм машинных, биологических и культуральных систем фиксируется в ней по технологической мерке и в результате оказывается основой для уподобления человека — роботу-автомату (не важно, происходит ли это в деятельности рабочего на фабричном конвейере или при исполнении функций «компетентного специалиста» в корпоративных структурах) вместо того, чтобы стать теоретической предпосылкой выведения исполняемых человеком машинных — нечеловеческих — функций в технику с одновременным высвобождением его для выполнения подлинно человеческих — творческих — функций.
Таким образом, если в кибернетике информация представлена сугубо «объектно», как «банк данных», то человекоразмерное, «субъектное» ее прочтение, вытекающее из проведенного выше сопоставления, позволяет выдвинуть следующее определение. Информация — это поток сведений, подвергаемый интерпретации со стороны живых (биологических) и культуральных (человекоразмерных) систем соответственно степени развития способности агентов этих систем осуществлять данную интерпретацию.
При этом выстраивается следующая классификационная «сетка».
-
1. Бесконтекстная информация технического типа, носителями которой являются сигналы (знаки с однозначным прочтением).
-
2. Контекстная информация биологического типа, носителями которой — в силу того, что в природе есть контекстная неоднозначность и, следовательно, возникают различия между знаками и значениями — являются знаки .
-
3. Сверхконтекстная информация культурального типа, носителями которой являются смыслы (универсализирующие знаки).
Из этих форм только 2-я существует в живой природе, в культуре же могут существовать все три, но если 1-я обращена к человеку как носителю узкой функции (напр., в виде приказа), 2-я — как члену более или менее широкой социальной группы (напр., в виде утилитарного, прикладного знания), то 3-я обращена к человеку как к уникальной личности и вступает в действие лишь тогда, когда он реализует свою универсальность (напр., в творческом процессе или при восприятии произведений искусства).