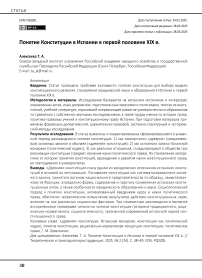Понятие конституции в Испании в первой половине XIX в.
Автор: Алексеева Т.А.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (24), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена проблеме значимости понятия конституции для выбора модели конституционного развития, становления юридической науки и образования в Испании в первой половине XIX в. Методология и материалы. Исследование базируется на испанских источниках и литературе: нормативных актах, иных документах, подготовленных юристами и политиками, текстах их выступлений, учебной литературе, отразившей опережающее развитие университетского образования по сравнению с собственно научными исследованиями, а также трудах ученых по истории права, политико-правовых учений и конституционному праву Испании. При подготовке материала применены формально-догматический, сравнительно-правовой, системно-структурный и исторический методы исследования. Результаты исследования. В статье выявлены и охарактеризованы сформировавшиеся в указанный период разновидности понятия конституции: 1) как совокупности «древних» (средневековых) основных законов и обычаев («древняя» конституция); 2) как основного закона Испанской монархии (политический кодекс); 3) как реальных отношений, складывающихся в обществе при реализации конституции (предмет изучения науки политического права). Их становление неотделимо от истории принятия конституций, зарождения и развития науки конституционного права, ее преподавания в университетах.
«древняя» конституция, испанская монархия, конституция как политический кодекс, понятие конституции, рационально-нормативная концепция конституции, политическое право, г. м. ховельянос
Короткий адрес: https://sciup.org/14133156
IDR: 14133156
Текст научной статьи Понятие конституции в Испании в первой половине XIX в.
Актуальность темы данной статьи не исчерпывается ее слабой изученностью в российском правоведении. Обращение к истории формирования понятия конституции в испанской политико-правовой мысли, законодательстве и образовании представляется полезным с точки зрения выявления в этом процессе специфики сочетания национальных традиций и зарубежного опыта, их предопределенностью социально-политическими реалиями, эволюцией государственно-правовых институтов, становлением юридической науки и образования.
Статья посвящена проблеме значимости понятия конституции для выбора модели конституционного развития в Испании в первой половине XIX в. Фундаментом первой модели стало учение о «древней» конституции, подобной неписанной конституции Великобритании; второй — конституционный опыт
Франции. Обостренный интерес к национальной истории и политико-правовым традициям в условиях войны с наполеоновской Францией, неприятие «дарованной» императором французов Конституции 1808 г. способствовали формулированию идеи «древней» конституции. В рассматриваемый период она получила завершенное и полное идейное осмысление, неоднократно использовалась либералами, умеренными либералами, карлистами как инструмент для достижения политических целей, а ее содержание стало юридическим источником для испанских учредителей. В первой половине XIX в. в стране, вступившей на путь конституционного развития, были приняты четыре конституционных акта либерального типа (Политическая конституция Испанской монархии 1812 г., трижды вводившаяся в действие полностью и один раз частично, стала, в свою очередь, в разной степени источником Королевского статута 1834 г., конституций 1837 и 1845 гг.). Кроме того, несмотря на очевидное заимствование второй модели в Испании, учение о «древней» конституции использовалось как неоспоримый аргумент в пользу их принятия. Она нашла и непосредственное отражение в текстах указанных конституционных актов, что в последний раз имело место в Конституции 1845 г. В это время новые тенденции в представлении о конституции получили развитие в сфере политики, юридической науки и образования. Этими фактами определены временные границы проведенного анализа.
Наряду с представлением о «древней» конституции в Испании в рассматриваемое время возникли и два иных взгляда на понятие конституции. Представление о ней как о систематизированном и структурированном акте было реализовано при разработке проектов четырех конституций Испании, в практике их реализации, в курсах юридических факультетов. Появившийся социологический подход получил распространение в теоретических разработках и образовательной среде. В рамках данной статьи выявляются характерные черты вышеуказанных представлений о конституции, тексты, содержавшие результаты их осмысления, а также их отражение в принятых конституциях.
Методология и материалы
Статья подготовлена на основе испанских источников и литературы, изученных на языке оригинала: нормативных актов, иных документов, составленных юристами и политическими деятелями, текстов их выступлений, учебной литературы, отразившей опережающее развитие университетского образования по сравнению с собственно научными исследованиями, работ отдельных ученых, а также научных трудов по истории права и правовых учений, по истории конституционного права Испании рассматриваемой эпохи. Работа основана на применении сравнительно-правового, системно-структурного и исторического методов исследования. Особое значение имеет применение формально-догматического анализа текстов правовых актов, проектов законов и иных документов.
Результаты исследования
Идея «древней» конституции в трудах Г. М. Ховельяноса
Во второй половине XVIII в., во время правления «просвещенного» монарха Карла III (1759–1788), в Испании возник интерес к конституционной проблематике. Как и в других европейских странах того времени, он имел философско-политический характер и нашел свое преломление в размышлениях и деятельности Ф. Кампоманеса, Ф. Кабарруса, Г. М. Ховельяноса и некоторых других1. Внимание к понятию «конституция» обострилось в связи с принятием в соседней Франции начиная с 1789 г. ряда конституционных актов. Они обсуждались просвещенной частью испанского общества, хорошо знакомой с политико-правовыми идеями французских мыслителей. Практическое и юридическое значение указанный интерес получил в условиях начавшейся в 1808 г. войны испанского народа против наполеоновской
Франции, войска которой находились на территории Испании, а также в связи судьбоносными для нее актами императора французов: принуждением к отречению испанского монарха от трона, провозглашением королем Жозефа (Хосе) Бонапарта и «дарованием» Испании в Байонне Конституции 1808 г.2 Всё это подтолкнуло патриотические силы к юридическому оформлению национальной системы органов государственной власти. Для ее организации в 1808 г. была создана Центральная правительственная хунта, она приступила к подготовке созыва представительного органа — Генеральных и чрезвычайных кортесов.
Выдающуюся роль в этой работе сыграл видный мыслитель, юрист Г. М. Ховельянос (1744–1811), представлявший в Центральной хунте Астурию и вошедший в состав комиссии по подготовке созыва кортесов3. Впервые свои размышления о роли конституции в жизни общества и Испанской монархии он представил в речи, произнесенной при вступлении в члены Академии истории в 1780 г. В ней Г. М. Ховельянос заложил, как отметил отечественный исследователь его деятельности В. В. Суховерхов, «новую для испанской гуманитарной науки идею историзма»4. Для Г. М. Ховельяноса была очевидна связь «между историей каждой страны и ее законодательством», и поэтому он выразил убежденность в необходимости соединения «изучения истории с изучением законов»5. Это особенно важно, по его мнению, для юристов, так как в процессе знакомства с историей они могут получить необходимые знания для управления людьми «на разумной основе и в соответствии с законами»6. В этих рассуждениях мыслителя явно усматривается мостик к будущему антропологическому ракурсу в юридических исследованиях.
В своем выступлении Г. М. Ховельянос неоднократно использовал термин «конституция». Текст речи 1780 г. позволил испанскому исследователю С. М. Короносу Гонсалес определить изложенное юристом понимание конституции как «историко-нормативное»7, а Х. Варела Суансес-Карпенья сделал вывод о том, что Г. М. Ховельянос открыл дорогу будущему социологическому направлению в ее ис-следовании8.
Идеи речи получили развитие через 30 лет в главном труде Г. М. Ховельяноса, отразившем его представление о конституции. «Доклад, в котором опровергается клевета в отношении членов Центральной хунты королевства, обосновывается поведение и мнения автора с момента восстановления свободы»9, ставший последним произведением Г. М. Ховельяноса, несомненно, является значительным памятником испанской историко-правовой мысли. Он был написан в 1810 г. и в 1811 г. опубликован с 26 приложениями и четырьмя замечаниями к ним.
В «Докладе» Г. М. Ховельянос представил свою идею о наличии «древней» конституции страны, начавшей свою историю еще в Вестготском королевстве. В приложении XII к «Докладу» («Совет относительно созыва кортесов по сословиям») мыслитель определяет конституцию Испании как «совокупность основных законов, которые устанавливают права суверена и подданных и средства, полезные для их обеспечения» (п. 25)10. Вместе с тем юрист неоднократно упоминает об обычаях, отношение к которым четко формулирует в том же приложении: при отсутствии норм закона будет «достаточно древнего и постоянного обычая». Обычай, по его мнению, является «подлинным источником испанской конституции» (п. 17), как и всякой другой конституции в Европе11.
В связи с тем что в испанском обществе была осознана необходимость создания собственной национальной конституции в противовес «дарованной» Наполеоном, Г. М. Ховельянос категорично заявляет, что нация ни в коем случае не должна разрушать свою «древнюю» конституцию для создания совершенно новой конституции. Кортесы, созыв которых подготовила Центральная хунта, могут лишь реформировать ее. Далее юрист указывает конкретные направления «реформы»: сохранив «форму нашей монархии» и обеспечив соблюдение основных законов, «улучшить, насколько это возможно, эти законы», ограничить «королевскую прерогативу и обременительные привилегии, сословную иерархию, и согласовать первое и второе с неотъемлемыми правами нации, чтобы обеспечить и укрепить гражданскую и политическую свободу граждан»12.
Однако предложенные Г. М. Ховельяносом улучшения «древней» конституции, очевидно, предполагали ее существенные изменения. Они были обусловлены не только реалиями испанской жизни, но и влиянием политико-правовой мысли и юридических источников Франции, Великобритании и США13. Использование зарубежных образцов очевидно в части осмысления Г. М. Ховельяносом принципа суверенитета, обосновывающего миссию созываемых кортесов, и его предложений по реализации принципа разделения властей, по отказу от сословной организации кортесов и введению их двухпалатной структуры.
Идея «древней» конституции соответствовала политически значимой потребности противопоставить национальное и историческое (с опорой на опыт союзной Великобритании) всему иностранному и близкому по времени (главным образом, французскому). Используя типологию понятия «конституция», предложенную одним из классиков испанской науки конституционного права M. Гарсия-Пелайо и наиболее подходящую для историко-конституционных исследований, «древнюю» конституцию в учении Г. М. Ховельяноса можно отнести к историко-традиционной разновидности, основа которой — легитимность, обнаруживаемая в прошлом и опирающаяся на историю страны14. Следует отметить, что указанная типология применяется современной испанской и зарубежной наукой конституционного права в научных исследованиях и университетских курсах15.
«Древняя» конституция и конституция как политический кодексв документах Генеральных и чрезвычайных кортесов
Идея «древней» конституции оказалась весьма востребованной в Генеральных и чрезвычайных кортесах, открывших свои заседания 24 сентября 1810 г. Конституционная комиссия, в которой из 15 членов 10 были юристами, сопроводила подготовленный ею проект «Предварительной запиской»; главным автором ее текста стал А. Аргуэльес. Она, несомненно, может быть признана научным произведением с учетом объема привлеченного материала, глубины проведенного анализа и сделанных выводов, соответствующих поставленной задаче. Следуя идеям Г. М. Ховельяноса, депутаты настаивают на том, что они подготовили проект «национальный и древний по своей сути, новый лишь по порядку и методу изложения»16. При этом отмечается использование «нового метода распределения вопросов» для того, чтобы «они образовали систему основного и учредительного закона, нацеленного на обеспечение свободы и независимости нации, прав и обязанностей граждан, достоинства и власти короля и судов, формирования и использования вооруженных сил, экономической и административной организации провинций», «как предписывали основные законы Арагона, Наварры и Кастилии»17. По отношению к ним в «Предварительной записке» неоднократно выражено почтительно-восторженное отношение.
Однако сопоставление ее текста с конституционным проектом, внесенным в кортесы, а также с принятой Политической конституцией Испанской монархии, промульгированной (обнародованной) 19 марта 1812 г., показывает, что учредители заимствовали из средневекового права лишь общие принципы (например, признание фундаментального значения монархии и католической религии, истоки представительства) и названия институтов и должностей (например, кортесы, принц Астурийский).
Вместе с тем обращение либералов, как сторонников решительных преобразований и наиболее активной части Комиссии, к «древней» конституции имело и политический мотив. Они изначально позаботились о поддержке своего детища депутатами, сторонниками сохранения статуса короля в прежнем виде, а также о признании акта значительной частью консервативно настроенного населения страны. В преамбуле Конституции 1812 г. было указано, что учредители приняли ее после того, как установили, что «прежние основные законы монархии могут достойно выполнять высокую миссию по обеспечению возвеличивания, процветания и благосостояния всей нации»18. Миф о восстановлении «древней» конституции был использован кортесами для того, чтобы отвлечь внимание от явного заимствования Конституции Франции 1791 г. как главного юридического источника Конституции 1812 г. Однако сходство этих актов было очевидно просвещенным испанцам. В трудах Р. Велеса и Х. Рико-и-Амат (1818 и 1860 гг., соответственно) содержались сравнительные таблицы отдельных статей конституций 1791 и 1812 гг., которые подтверждали вывод авторов об их тождественности «по духу и форме»19.
Генеральные и чрезвычайные кортесы восприняли из Франции представление о конституции как о систематизированном и структурированном основном законе, принятом представителями нации и закрепляющем основы организации и осуществления государственной власти, отношения испанцев (граждан) и учрежденной системы государственных органов. А в преамбуле Конституции было объявлено, что она принята «для лучшего управления государством». Учредители не следовали историко-традиционной концепции конституции, а лишь использовали «древнюю» конституцию как юридический источник и обоснование легитимности принятого Основного закона 1812 г., базирующегося на рационально-нормативном представлении о конституции20. Связь с «древней» конституцией, законодательством прошлого по настоянию депутатов — умеренных либералов ( moderados ) — демонстрировалась и в текстах Королевского статута 1834 г. (ст. 1) и Конституции 1845 г. (преамбула), подразумевалась в Конституции 1837 г., главным источником которой стала Конституция 1812 г.
Ссылка на отход от «древней» конституции была выдвинута как аргумент в пользу отмены Конституции 1812 г. группой депутатов ординарных кортесов в «Манифесте персов»21, а затем и Фернандо VII в Манифесте, ее аннулировавшем22. Позднее идею «древней» конституции использовали карлисты, выступавшие против возведения на трон (после кончины Фернандо VII в 1833 г.) малолетней королевы Изабеллы и ее дальнейшего правления, ставшего конституционным; они выдвинули лозунг «Бог! Родина! Фуэро! Король!»23.
Примечательно, что на заседании Генеральных и чрезвычайных кортесов обнаружились и истоки будущего социологического понимания конституции, обозначенные ранее Г. М. Ховельяносом. 30 сен- тября 1811 г. депутат Ингуансо выделил два вида конституционных положений. Первые — неизменные, «основные» — «устанавливают основы государства, и если их разрушить, то разрушится социальное здание» (нормы «о защите и обеспечении личности и собственности всякого испанца»). Второй вид — положения, которые вполне могут быть изменены с течением времени и под влиянием обстоятельств (нормы о количестве депутатов, структуре кортесов, дне начала их сессий)24.
Политическая конституция Испанской монархии 1812 г. —предмет преподавания
Во время первого непродолжительного действия Конституции 1812 г. в условиях войны, с момента ее введения в действие и до отмены в мае 1814 г. Фернандо VII, восстановившим абсолютизм, она была предметом научных исследований и преподавания. В 1813 г. Мартинес Марина опубликовал «Теорию Кортесов» и ввел в качестве подзаголовка уточнение, оказавшееся весьма знаменательным: «С некоторыми рассуждениями об Основном законе Испанской монархии, утвержденном Генеральными и чрезвычайными кортесами и промульгированном в Кадисе 19 марта 1812 г.»25 В течение ближайших лет представление о конституционном праве в Испании ассоциировалось с Конституцией 1812 г., содержавшей норму об обязательном изучении ее текста в университетах и иных заведениях, где преподавались политические и церковные науки (ст. 368). В обществе с весьма невысоким уровнем грамотности и правовой культуры конституционно-правовое просветительство для должного исполнения испанцами Конституции было актуальным. Показательно, что профессура первых кафедр конституционного права, созданных в Валенсии и Мадриде26, поняв значение формирования профессионального правосознания студентов и их гражданской позиции, выявила должный ракурс интерпретации Конституции. Выдающийся конституционалист Л. Санчес Ахеста определил его как «преподавание публичной морали», «политического катехизиса»27. Данный сюжет свидетельствует о продолжении антропологической линии в понимании конституции.
Стимулом к продолжению разработки конституционной проблематики в целом и понятия «конституция» в частности стало второе введение в действие Конституции 1812 г., «конституционное трехлетие» (1820–1823) и включение в учебные курсы юридических факультетов дисциплины «Публичное конституционное право». Тогда же был издан труд профессора Саламанкского университета Р. Саласа «Лекции по публичному конституционному праву для учебных заведений Испании». Он считается первым в истории страны учебником по этой дисциплине. Профессор весьма критично относится к демонстрации приверженности Кадисских учредителей «древней» конституции страны, ставшей, по его мнению, уже неактуальной. Как приверженец принципа народного суверенитета, Р. Салас утверждает, что конституции, будучи «данными народам монархами», которые «обязаны своей властью» лишь «шпаге и Богу», не подходят разумным людям, знающим свои права и то, что «всякая политическая власть принадлежит народу»28.
Политическая конституция определена профессором как «кодекс основных законов государства», «правил и условий, посредством которых народ желает управляться». Конституция, по Р. Саласу, — это общественный договор, а в юридическом «упрощенно грамматическом» смысле — основной закон любого правления. Акт может называться по-разному: конституционный кодекс, конституционная хартия, политическая конституция, основной закон, общественный договор. В его содержании должно быть три элемента: декларация прав, принципы организации власти и правила ее «распределения» между различными органами29.
Конституционное право после принятия Основного закона 1837 г. стало наукой политической, а его преподавание — инструментом политической деятельности, что отразилось и на представлении о конституции. Например, государственный деятель Х. Лопес в своем лекционном курсе рассматривал ее как комплекс «принципов, которые установили и санкционировали люди, окрестив их именем конституционного правления»30. При этом, отмечает исследователь его творчества, он, повествуя слушателям о конституционных основах и институтах, активно разъяснял программу партии прогрессистов (одной из двух партий, выделившихся из либералов)31.
Социологизация понятия конституции в 30–40 гг. XIX в.
Оживление политических и юридических дискуссий, освещающих различные аспекты конституционной тематики, началось после кончины Фернандо VII в 1833 г., завершившей эпоху абсолютизма, и издания Королевского статута в 1834 г. Обширный материал для анализа предоставило конституционное развитие европейских стран. Июльская революция 1830 г. во Франции и принятие представительным органом Конституционной хартии вдохновили испанцев на издание от имени королевы-правительницы Королевского статута 1834 г., ставшего новым Основным законом, и стимулировали размышления правоведов о значении социальных факторов в представлении о конституции и ее месте в общественной жизни. Это сопровождалось активным вхождением в юридический лексикон понятия «политическое право». Оно отражало популярность и значимость идей Ж.-Ж. Руссо для юристов в Испании и других европейских странах32. Знаменательным событием рассматриваемого периода стали лекции по политическому праву, которые прочел в Мадридском Атенео в 1836–1837 гг. правовед (а с 1837 г. — депутат кортесов) Х. Доносо Кортес. В них он представил свои рассуждения по конституционной проблематике, рассмотренной с социально-политической точки зрения. Яркий пример тому — рассуждения о фундаментальном принципе суверенитета и о значении «суверенитета разума», понимаемом как «активная способность человека»33. Они соответствовали пристальному вниманию юриста к социальным отношениям, к связи «человек – общество».
Отмеченные новеллы характерны и для труда Л. Макареля «Элементы политического права», опубликованного на испанском языке в 1838 г. Политическая конституция, утверждает автор, — это второе после общественного договора соглашение общества («политической общности»), которым оно устанавливает «форму правления», свое правительство. Поэтому автор определяет конституцию как «основной закон»34. Л. Макарель убежден, что конституция не может быть результатом «чистого создания» ее текста определенными людьми и должна быть «моральной». Таковой он считает политическую конституцию, по которой власть осуществляется в интересах всего народа, и при этом гарантированы естественные права человека. Для этого конституция должна быть основана на обычаях народа, соответствовать природе и размерам государства, «подходить нации, которая ее создала», обеспечивать социальные гарантии людям35. Поскольку общество развивается и изменяется, указал Л. Макарель, «плоха та конституция, что не предусматривает законный и мирный способ» внесения в нее поправок, а «вдохнов- лена характером постоянства и стабильности»36. А. Гальего Анабитарте справедливо отметил, что данному тезису в большей степени соответствовало понятие «политического права», изучаемого как процесс «в русле философского, политического, социологического, а не юридического знания»37.
Новая тенденция получила развитие в трудах испанских юристов 1840-х гг. Яркими примерами стали тексты «Лекций по конституционному политическому праву» А. Алькалы Гальяно и Х. Ф. Пачеко (дисциплина с таким названием была введена в учебные планы в 1842 г.), прочитанные в Мадридском Атенео и опубликованные, соответственно, в 1843 и 1845 гг. Примечательно, что действовавшая Конституция 1837 г. не стала предметом анализа А. Алькалы Гальяно и удостоилась незначительного внимания Х. Ф. Пачеко. Частично это объяснялось тем, что Испания была на пороге конституционной реформы, а во время создания текста «Лекций» Х. Ф. Пачеко в кортесах, заседавших в 1844–1845 гг., разрабатывался и обсуждался проект будущей Конституции 1845 г.
Лекции этих юристов, по существу, были посвящены «конституционной политике», а не конституционному праву и не отличались присущей правоведению методической проработанностью представленного материала; авторы самостоятельно выбрали лишь отдельные вопросы для освещения38. Так, А. Алькала Гальяно уделил бóльшее внимание зарубежному праву, в том числе в историческом и сравнительно-правовом аспектах. Он предложил учесть в нормах о муниципальных советах ( ayuntamientos ) разработки «новой науки» административного права, которая «получила известность и изучается в Европе»39.
Следует отметить, что авторы «Лекций» отвергали рационально-нормативную концепцию конституции, которой частично придерживалась в Испании партия прогрессистов. Они разделяли понятие конституции, близкое партии умеренных либералов. А. Алькала Гальяно сделал это в своем выступлении в Конгрессе депутатов (нижней палаты кортесов) 2 ноября 1845 г., заявив, что «под конституцией государства» понимается не только то, что содержится в тексте книги, но и «комплекс того, что реально и подлинно учреждается в стране», и «кое-что из этого обычно находится за пределами текста»40. Идеи юриста были близки взглядам каталонского философа Х. Бальмеса, выдвигавшего тезис о значении «социального порядка» для всех сфер общественной жизни, включая законодательство41. Назначение конституции А. Алькала Гальяно усматривает в том, чтобы преобразовать власть социальную во власть политическую42. Х. Ф. Пачеко в том же году в «Лекциях» критически замечает, что «первые конституции были торжеством теории над обществом». В отличие от них современные ему конституции — не только «законы управления, политические законы государства, установленные теорией»; они являются образцом для организации государства и содержат декларации прав, которые в действительности должны уважать властвующие43.
Применение социологического подхода в трудах и деятельности юристов означало зарождение в Испании третьей разновидности концепции конституции, выделенной М. Гарсиа-Палайо, — социологической, отождествляемой с социальной обстановкой и экономическими отношениями при ее реализации44. Внимание к социологическому аспекту в рассматриваемую эпоху заставило осознать необходимость учета различных социальных факторов в процессе законотворчества, анализа конституционных норм, правореализации, то есть обогащало методологию исследований и методику преподавания.
А. Алькала Гальяно (как и Х. Доносо Кортес) выступил в кортесах 1844–1845 гг. в поддержку сохранения идеи «древней» конституции в тексте нового Основного закона. По настоянию умеренных либералов она нашла оформление в Конституции 1845 г. в виде заявления учредителей о намерении «упорядочить и привести в соответствие с существующими потребностями государства древние фуэрос и свободы королевств» (преамбула). Эта декларация стала последней в рассматриваемый период, хотя ее отзвуки еще не раз будут иметь место в эволюции основных законов Испании.
Заключение
Рационально-нормативное понимание конституции и сопутствующая ей модель основного закона (политического кодекса) сохранили свое базовое значение и были подтверждены принятием конституций 1856 г. (не вступила в действие), 1869, 1876, 1931, 1978 гг. Разработанное и апробированное в первой половине XIX в. учение о «древней» конституции стало основой испанской конституционной традиции тщательного изучения национальных исторических принципов взаимоотношений королевской власти и населения, сложившихся государственно-правовых институтов и их разумного использования при разработке конституционного законодательства. Истоки социологического понятия конституции подготовили испанских интеллектуалов и общество к восприятию новых тенденций в развитии конституционного права и многоаспектному исследованию конституционной проблематики в последующие десятилетия и века.