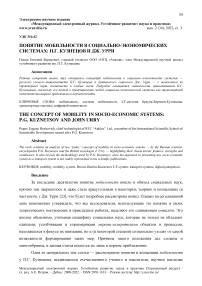Понятие мобильности в социально-экономических системах: П.Г. Кузнецов и Дж. Урри
Автор: Попов Евгений Борисович
Статья в выпуске: 2 (34), 2022 года.
Бесплатный доступ
Работа содержит анализ двух «полярных» концепций мобильности в социально-экономических системах - русского ученого-энциклопедиста П.Г. Кузнецова и британского социолога Дж. Урри - с выделением их характерных черт, достоинств и слабых мест. Подробно освещается методология, применявшаяся П.Г. Кузнецовым, поскольку его подход к представлению любой социально-экономической системы как транспортной недостаточно широко представлен в научной печати.
Мобильность, система мобильности, lt-система брауна-бартини-кузнецова, транспортные системы, цифровой паноптикон
Короткий адрес: https://sciup.org/14128087
IDR: 14128087 | УДК: 316.42
Текст научной статьи Понятие мобильности в социально-экономических системах: П.Г. Кузнецов и Дж. Урри
За последние десятилетия понятие мобильность вошло в обиход социальных наук, прочно там закрепилось и даже стало краеугольным в некоторых теориях и концепциях (в частности, у Дж. Урри [23], что будет подробнее рассмотрено ниже). Однако на сегодняшний день невозможно утверждать, что все исследователи, использующие это понятие в своих теоретических построениях и прикладных работах, наделяют его одинаковым смыслом. Это вполне объяснимо, учитывая специфику социальных наук, которые не только не обладают едиными, устойчивыми и соразмерными мерами-измерителями объектов и процессов, находящихся в фокусе их внимания, но и (в некоторой степени) сознательно уходят от самой возможности формирования таких мер. Причины такого положения дел сложны и многообразны, и данная статья коснется их лишь в первом приближении.
Одна из центральных тем статьи — рассмотрение понятия и концепции мобильности у П.Г. Кузнецова, выдающегося отечественного ученого и мыслителя, научное наследие которого, большей частью содержащееся в архивах в виде рукописных и машинописных документов, лишь в последние годы начало находить свой путь к широкой читательской аудитории благодаря издательской деятельности [13-17] Международной научной школы устойчивого развития, носящей его имя.
Мобильность именно «по Кузнецову» выбрана в качестве отправной точки настоящей статьи не случайно. На примере этого понятия, необходимого любому исследователю, работающему с современными социально-экономическими системами, можно, с одной стороны, «навести мосты» между радикальным конструктивизмом П.Г. Кузнецова и актуальными социологическими концепциями, и, с другой стороны, наглядно продемонстрировать преимущества и ограничения как первого, так и последних.
Однако описание и анализ мобильности «по Кузнецову» необходимо предварить своего рода методологическим введением — с целью в явном виде продемонстрировать истоки и особенности его концепции.
Методология П.Г. Кузнецова
П.Г. Кузнецов был последовательным марксистом — в том плане, что скрупулезно применял метод Маркса в своих работах. Его главными учителями в этом отношении были отец — Г.Ф. Кузнецов1 — и (позднее) Э.В. Ильенков, с которым П.Г. Кузнецова объединяли не только взгляды, но и крепкая дружба.
Здесь важно отметить, что если собственно экономическая теория Маркса неоднократно подвергалась критике, в том числе уничтожающей ее до основания (к примеру, [3, с. 73-112]), то его методология длительное время оставалась (и в ряде случае остается — с оговорками и модификациями) легитимной и неприкосновенной для нескольких поколений ученых и мыслителей (как непосредственно марксистов, так и попавших под влияние этого направления мысли).
В СССР в первые десятилетия существования страны труды основателей «научного марксизма» — К. Маркса и Ф. Энгельса — в интерпретации В.И. Ленина (т.н. «марксизм-ленинизм») получили статус «Священного Писания» и подлежали исключительно переложению и «идеологически выдержанному» комментированию, но не анализу и критике2. Ситуация кардинально изменилась в первое послевоенное десятилетие, когда были предприняты попытки вычленить и проанализировать собственно марксистский метод («метод восхождения от абстрактного к конкретному») — наиболее яркими и успешными, безусловно, следует признать кандидатские диссертации А.А. Зиновьева [9] и Э.В. Ильенкова [10]. Оба исходили из одной и той же предпосылки: Маркс оставил будущим поколениям логику «Капитала», а создание собственно диалектической логики является как раз-таки делом этих поколений, — но их подходы к проблеме существенно различались3.
Научная деятельность А.А. Зиновьева, который в дальнейшем стал выдающимся логиком и социологом, послужила катализатором изысканий (поначалу совместных) Б.А. Грушина, М.К. Мамардашвили и Г.П. Щедровицкого, и их коллективная работа первоначально продвигалась в русле формирования новой логики, получившей название содержательно-генетической; однако вскоре каждый двинулся в своем собственном направлении — логическом (Зиновьев), философском (Мамардашвили), социологическом (Грушин) и методологическом (Щедровицкий и участники Московского методологического кружка, ММК).
По-иному сложился путь Э.В. Ильенкова, который оставался «рафинированным» марксистом и, однажды вычленив, описав и разъяснив метод восхождения от абстрактного к конкретному (в гегельянском понимании) в вышеуказанной работе4, в дальнейшем осознанно и творчески применял его как к собственно философским, так и психологическим проблемам.
П.Г. Кузнецов также описывал метод Маркса (например, в контексте его применения в задачах планирования, организации и управления [15, с. 360-373]), но делал это ретроспективно — спустя годы успешного применения им указанного метода — и явно оговаривал при этом, что пользуется в том числе и ранее полученными Э.В. Ильенковым результатами, которые высоко ценит (см., к примеру, [14, с. 23-28, с. 40-43]).
Заметим, что последовательный и «невульгарный» марксизм Кузнецова позволяет рассматривать его в ряду самых выдающихся отечественных ученых-приверженцев этого направления (не переосмыслявших сам метод Маркса, но плодотворно его использовавших) — к примеру, наравне с Б.Ф. Поршневым, объемное междисциплинарное исследование которого «О начале человеческой истории», завершенное в начале 1970-х гг., лишь недавно (в 2000-е гг.) увидело свет в редакции, задуманной автором.
Помимо метода восхождения от абстрактного к конкретному, важную роль в работах Кузнецова (в особенности в более поздних работах) играет антиномический метод Канта — роль во многом пропедевтическую, но не только. Ярчайшим примером применения этого метода может служить работа [15, с. 243-249], в которой подробно рассматривается суждение «война есть мир» и все логически возможные его «производные» (бинарные оппозиции) — по форме это может напоминать постмодернистскую «игру со словами», но по содержанию это нечто кардинально иное. Из исходного суждения и каждой его производной диалектически выводятся следствия — в данном случае политического и идеологического толка.
Выделив ключевые черты методологии П.Г. Кузнецова, перейдем непосредственно к понятию и концепции мобильности в его трудах.
Мобильность по П.Г. Кузнецову
Обратимся к самой ранней из известных работ П.Г. Кузнецова [2], содержащей понятие мобильность. Это неоконченная работа 1974 г., написанная в соавторстве с Робертом Оросом ди Бартини; она была опубликована в 2021 г. [17, с. 186-203], а ее машинописный текст, с которым работал автор настоящей статьи, хранится в Отделе хранения документов личных собраний Москвы Центрального государственного архива города Москвы. Приведем развернутую цитату из данной работы, которая точно и исчерпывающе описывает мобильность «по Кузнецову», ее смысл, меру-измеритель и возможности применения:
«Если произведение веса 5 груза на физическую скорость его транспортировки образует понятие мощность , то произведение мощности на физическую скорость ее транспортировки образует новое физическое понятие, которое мы назвали мобильностью . Это физическая величина, которая имеет размерность [ L 6 T –6]. Представим себе подъемный кран с определенной величиной мощности. Если он стоит на месте и совершает работу подъема грузов, то его мощность имеет определенное значение. Может случиться, что кран находится в одном месте, а нужно его использовать для подъема груза в другом месте. Он может начать работу в новом месте только тогда, когда будет туда доставлен. Хотя объектом транспортировки в данном случае является кран, имеющий определенный вес, нас интересует не сама скорость транспортировки этого веса, а скорость доставки его как источника мощности. Можно иметь много технических решений, приводящих к созданию кранов различных конструкций, но они будут образовывать (при одной и той же величине мощности) разные транспортные системы по транспортировке мобильности . Величина мобильности характеризует, в частности электроэнергосистемы, ибо объектом транспортировки электроэнергосистем является величина мобильности (т.е. скорость доставки мощности, а не энергии), ибо источником мощности может быть электростанция, которая транспортирует свою мощность на тысячи километров. Огневая мощь войсковой части, умноженная на скорость доставки этой части к месту ведения боя, фактически и явилась прообразом понятия мобильность » [2, с. 8].
Приведенная цитата нуждается в нескольких пояснениях.
Во-первых, LT -размерность (для мобильности — [ L 6 T –6]) — это размерность величины в кинематической системе физических величин Брауна-Бартини-Кузнецова. Подробное рассмотрение этой системы и ее свойств не является предметом настоящей статьи, поэтому отсылаем интересующихся темой читателей к работам [1, с. 34-56; 5; 6; 14, с. 255-266; 26], специально посвященным LT -системе. Сейчас для нас важно лишь то, что мобильность вводится сразу как физическая величина, что предопределяет смысл понятия и измеримость введенной величины.
Во-вторых, необходимо вписать это понятие в широкий контекст потоковой концепции 6 П.Г. Кузнецова [16, с. 172-176]. В рамках этой концепции любая социальноэкономическая система рассматривается (в пределе) как транспортная система, наиболее удобным инвариантом7 для описания которой служит величина мощности (поскольку именно эта величина позволяет задействовать математический аппарат тензорного анализа Г. Крона) как потока энергии (по определению: количество энергии в единицу времени) — в последующих работах П.Г. Кузнецова, связанных непосредственно с транспортными системами [15, с. 438-447; 20], в качестве инварианта принимается именно мощность , а не мобильность. Тем самым, область применения величины мобильности в концепции Кузнецова оказывается ограниченной рядом специальных задач, о чем свидетельствует и приведенная выше обширная цитата из работы [2].
В-третьих, добавим, что введенная таким образом величина мобильности хорошо подходит для описания процессов не только в системах электроэнергетики, но и в сетевых информационных системах, в частности — сети Интернет, бурное развитие и современное состояние которой было практически невозможно предвидеть в 1974 г.
Необходимо отметить, что сам П.Г. Кузнецов сообщал, к примеру, в письме от 17 февраля 1998 г. некоему Виктору Ивановичу (возможно, Илюхину), что «…понимание [монографий8] было сознательно затруднено…» [15, с. 557]. Но для целей данной статьи это не будет являться серьезным препятствием, поскольку нас интересует именно подход , концепция , а не применяемый Кузнецовым математический аппарат. Почему именно так?
Возможности и ограничения потоковой концепции П.Г. Кузнецова
Для начала раскроем подробнее первое пояснение к приведенной выше цитате из [2]. Введение мобильности как физической величины (как скорости переноса мощности) означает, что она обладает всеми свойствами физических величин, в том числе важнейшим для нас свойством измеримости [19, с. 150-162], а также имеет единицу измерения . Мобильность, таким образом, сразу же оказывается понятием, наделенным конкретным содержанием, что отличает ее от многих традиционно применяемых в социальных науках показателей, которые вычисляются (зачастую в процентах), а значит, по природе своей являются абстрактными — например, степени различных видов мобильностей в теории социальной мобильности П.А. Сорокина [22].
Почему это важно для нас? Дело в том, что потоковая концепция П.Г. Кузнецова удовлетворительным образом (с методологической и прикладной точки зрения) связывает понятия процесса и структуры [14, с. 76-88] — краеугольные понятия теории систем! — и делает это за счет использования мощного математического аппарата, основанного на тензорном анализе Г. Крона и во многом «параллельного» (но не тождественного!) диакоптике того же Крона. Тензорный анализ Крона, в свою очередь, был разработан в целях описания физических (электротехнических) систем и впоследствии применялся самим Габриэлем Кроном и его последователями к анализу систем различной природы9 — как инженерно-технических, так и социально-экономических [14, с. 454-460]. Круг замыкается, и у нас в руках оказывается инструмент для объективного (в силу физической измеримости применяемых величин) анализа любой социально-экономической системы; в этом заключается сильнейшая сторона подхода П.Г. Кузнецова.
Однако невозможно умолчать об ограничениях концепции П.Г. Кузнецова. Чтобы ясно увидеть, откуда они проистекают, обратимся к акторно-сетевой теории (АСТ), которая отказываясь от разделения на субъекты и объекты, рассматривает акторов, т.е. буквально «действующих лиц» (независимо от рациональности этих действий) [18, с. 68]. АСТ классифицирует акторов как проводников и посредников: проводники своими действиями осуществляют простое перемещение чего-либо (материального, информационного и др.), не оказывая влияния на содержание переносимого — «выход» (результат их действий) позволяет всегда однозначно судить о «входе» (исходных данных); посредники же преобразуют, изменяют, искажают имеющееся у них «на входе» уникальным образом [18, с. 58-59].
Уже из приведенных определений очевидно, что с математической точки зрения описать взаимодействия акторов-проводников достаточно легко (и потоковая концепция П.Г. Кузнецова подходит для этого как нельзя лучше), но задача усложняется с появлением в сети, образованной взаимодействующими акторами, хотя бы одного «узла»-посредника. А с чем мы сталкиваемся в изучаемой нами реальности?
Если социальные взаимодействия на разных уровнях управления (мир в целом, страны, регионы, муниципалитеты, отрасли, предприятия, социальные группы, отдельно взятые люди [4, с. 131-132]) мысленно разделить по критерию преобладания проводников или посредников, то окажется, что на уровне отдельных людей и групп людей посредников значительно больше, чем на более «высоких» уровнях. Данное утверждение не голословно: заметим, что Нобелевская премия по экономике 2002 г. была вручена Д. Канеману именно за доказательство иррациональности решений, принимаемых участниками экономических отношений [12], — а это и свидетельство, и следствие «засилья» посредников среди акторов.
Однако, чтобы «запустить» взаимодействия «высоких» уровней, требуется принимать решения , а решения принимают люди . Таким образом, недостоверная информация (прерогатива посредника!) может оказаться вполне серьезным основанием для принятия решения, ведущего к перераспределению реальных потоков энергии различных видов: так спекулятивное способно порождать объективное.
Из вышеизложенного становится понятным основное «слабое место» концепции П.Г. Кузнецова. Она великолепно подходит для ретроспективного анализа — описания уже свершившихся или совершающихся взаимодействий в социально-экономических системах, — но ее прогностическая мощь сводится на нет усилиями посредников (как минимум, на уровне отдельно взятых людей и социальных групп).
Обратимся теперь к «противоположному полюсу» — концепции мобильности у выдающегося социолога современности Дж. Урри, уже упомянутого во введении к данной работе.
Мобильность по Дж. Урри
Британский социолог Джон Урри (1946 – 2016) в поздний период своего научного творчества выдвинул собственную концепцию «мобильностей» (во множественном числе), обстоятельно изложенную им в книге [23]. Оговоримся сразу, что для целей настоящей статьи всеобъемлющее освещение, анализ и критика данной концепции избыточны, так что ограничимся теми ее характерными чертами, которые наиболее важны для сопоставления с результатами П.Г. Кузнецова.
Предваряя дальнейшее повествование, интересно отметить, что в начальный период своей карьеры Дж. Урри испытывал определенное влияние марксизма, прослеживаемое в его ранних публикациях, однако в дальнейшем (к началу 1980-х гг.) решительно отмежевался от этого направления мысли и позже солидаризировался с Б. Латуром, работы которого высоко ценил.
Монография [23] не содержит единственного определения понятия «мобильность», и автор особо оговаривает по тексту, а также подчеркивает самим названием книги множественность возможных значений термина. Однако в пределе данный термин (в понимании его у Урри) может быть сведен к чему-то , имеющему отношение к перемещению , понимаемому в самом широком смысле. Перемещаться могут люди, различного рода материальные объекты, информация и др. При этом в фокусе внимания находятся «…не объекты, вовлеченные в движение <…>, а структурированные маршруты (выделено мной — Е.П. ), по которым циркулируют и люди, и объекты, и информация», поскольку «именно маршруты определяют <…> различные формы капитала мобильности» [23, с. 143]. Под капиталом мобильности тут понимается «сумма возможностей» доступа индивида к различным «системам мобильности», обеспечивающая ему или ей особые преимущества, концептуально независимые от экономических и культурных факторов [23, с. 142].
Важнейшей чертой «парадигмы мобильностей» является своеобразная дихотомия мобильностей и иммобильностей (простейший пример: для самолета, обеспечивающего возможность перемещения на дальние расстояния с большой скоростью, требуются огромные иммобильные объекты — аэропорты) [23, с. 146]. Сущностно противоположные, они с необходимостью дополняют друг друга (без утрирования — диалектически ; и ниже по тексту Урри как будто подчеркивает это обращение к своим «корням», ссылаясь на данное Марксом описание тела индустриального рабочего, выполняющего рутинные действия).
Иммобильные «узлы» (или хабы) — вокзалы, аэропорты и т.д. — оказываются особым типом пространств, метко названным М. Оже в работе [21] «не-местами» [23, с. 294295]. Особенность «не-мест» состоит в том, что они сами по себе не являются конечными пунктами назначения для перемещающихся людей (впрочем, и грузов тоже), и путешественники как бы «проскакивают» их, не задерживаясь, не уделяя внимания, воспринимая их «размыто». В современном мире экспансия «не-мест» нарастает, и виной тому во многом является одна из наиболее развитых систем мобильности — автомобильность, продолжающая перекраивать в первую очередь городские пространства [23, с. 240-241].
Заметим, что здесь наблюдается и другое своеобразное проявление диалектики: современность преподносит нам не только разрастание «не-мест», но и довольно любопытное противоположное по смыслу явление, а именно — «искусство маршрутов». Произведения «искусства маршрутов» располагаются в труднодоступных местах (в малонаселенных или вовсе безлюдных пространствах, в неприметных зонах мегаполисов и т.д.), т.е. арт-объекты помещаются в контекст, который оказывается более неотделимым от них: маршрут, путевые впечатления оказываются важной (иногда — определяющей) частью опыта зрителя, воспринимающего данное произведение [8, с. 166-167].
Понятие «система мобильности», неоднократно употребляемое Дж. Урри по тексту монографии [23], может быть определено как совокупность средств мобильности и соответствующей инфраструктуры. Это касается не только транспортных средств, но и средств «информационной мобильности» — смартфонов и компьютеров, подключенных ко всемирной Сети. Урри на обширном эмпирическом материале демонстрирует, что даже единичная система мобильности — более прогрессивная, чем все, что было до нее, — способна вызвать огромные сдвиги в жизни общества, которое она «пронизывает» (примеры включают в себя: развитие железнодорожной сети в Великобритании в середине XIX в., вызвавшее «культ пунктуальности» и стандартизацию времени по Гринвичу [23, с. 208–212]; развитие автомобильной сети в США, сформировавшее планировку и облик крупных американских городов, подчинив их интересам автовладельцев [23, с. 244-246]; нарождавшуюся на момент публикации книги систему коммуникационной мобильности — превращение смартфона в своеобразную «часть тела», продолжение руки — парадоксально порождающую социальное отчуждение [23, с. 354]).
Детально рассмотрев, как системы мобильности формировали мир модерна и продолжают формировать нашу текущую действительность, Урри делает достаточно сдержанные и взвешенные прогнозы относительно ближайшего будущего. Спустя 15 лет с момента выхода «Мобильностей» мы располагаем «роскошью» проверить на практике достоверность его прогнозов.
Урри выделил два возможных сценария будущего (оговорив, что может реализоваться как один из них, так и некая комбинация обоих) [23, с. 495-501]:
-
- сценарий «племенной сделки» предполагает, что глобальный капитализм по ряду природных и техногенных причин распадается на отдельные регионы, при этом глобальные путешествия предсказуемо становятся прерогативой сверхбогатых людей;
-
- сценарий «цифрового паноптикона» означает сохранение глобализованного мира сводится к усилению непрямого контроля в обществе для удержания развивающихся систем мобильности «в узде».
В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что сценарий «племенной сделки» не реализовался — даже несмотря на активный передел сфер влияния и становление многополярного мира мы видим, что глобальная экономика тесно связывает густой логистической сетью практически все страны: при разрыве одних связей через краткое время возникают новые, поскольку для владельцев капитала никакие идеологические соображения не являются поводом отказываться от прибыли.
Напротив, реализация сценария «цифрового паноптикона» идет ускоренными темпами; особенно большой вклад в этот процесс внесла пандемия COVID-19: существующий виртуальный «теневой рынок» персональных данных оказался дополнен системами наружного наблюдения и идентификации [27, 28] (Урри провидчески дал этому сценарию подзаголовок «Благие намерения»: под видом обеспечения общественной безопасности в период пандемии в целом ряде стран были развернуты комплексы технических средств, применение которых — по крайней мере, в теории — выходит за рамки декларируемых целей).
Резюмируя, отметим следующие важные для нас в рамках данного исследования черты концепции мобильностей Дж. Урри:
-
- выполненный на стыке социологии, социальной психологии, антропологии и психогеографии качественный анализ мобильностей (с привлечением обширного «пласта» эмпирического материала периода XVIII-XXI вв.) обеспечивает теории Урри определенную прогностическую силу;
- отсутствие какого-либо математического аппарата не позволяет в рамках данной теории связать процессы и структуру в систему с позиции системного анализа (можно сказать, что они оказываются заданными и описанными феноменологически). Заключение
В настоящей работе освещены две «полярные» концепции мобильности применительно к социально-экономическим системам: П.Г. Кузнецова (основанная на измеримой физической величине и снабженная развитым математическим аппаратом) и Дж. Урри (основанная на анализе богатого эмпирического материала с применением широкого спектра средств социальных и гуманитарных наук). Проведенное рассмотрение обеих концепций позволило выявить их достоинства и слабые места, а также очертить сферу возможного применения. Можно констатировать, что объединение сильных сторон обеих концепций в единую теорию мобильности в социально-экономических системах позволит получить синергетический эффект (в плане описательной и прогностической силы такой теории), однако пока остается делом будущего.
Список литературы Понятие мобильности в социально-экономических системах: П.Г. Кузнецов и Дж. Урри
- Бартини Р.О. Мир Бартини. Сборник статей по физике и философии / сост. А.Н. Маслов. — М.: Самообразование, 2009. — 224 с.
- Бартини Р.О., Кузнецов П.Г. О коэффициенте полезного действия в системах транспортировки // ОХДЛСМ ЦГА Москвы. Ф. Л-152. Оп. 1. Д. 11. Л. 7-26.
- Бем-Баверк О. Критика теории Маркса. — Челябинск: Социум, 2019. — 266 с.
- Большаков Б.Е. Наука устойчивого развития. Книга I. Введение. — М.: РАЕН, 2011. — 272 с.
- Большаков Б.Е. Система универсальных мер – законов в науке устойчивого развития // Сетевое научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление». 2011. Т. 7, вып. 4 (13). URL: http://www.rypravlenie.ru/?p=1080.
- Большаков Б.Е., Куков В.И., Курсакин С.И. Исследование многомерного пространства-времени и эволюции реального мира: LT-подход (программа исследований) // Сетевое научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление». 2015. Т. 11, вып. 1 (26). URL: http://www.rypravlenie.ru/?p=2211.
- Гвардейцев М.И., Кузнецов П.Г., Розенберг В.Я. Математическое обеспечение управления. Меры развития общества. — М.: Радио и связь, 1996. — 176 с.
- Демпси Э. Модернизм и современное искусство / пер. Е. Куровой. — М.: Ад Маргинем Пресс; ABCдизайн, 2018. — 176 с.
- Зиновьев А.А. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса). — М.: Институт философии РАН, 2002. — 322 с.
- Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. 2-е изд., испр. / отв. ред. М.М. Розенталь. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 288 с.
- Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. — М.: РОССПЭН, 1997. — 464 с.
- Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. — 2003. — Т. 24. — № 4. — С. 31-42.
- Кузнецов П.Г. Наука развития Жизни. Т. 1. Введение. — М.: РАЕН, 2015. — 238 с.
- Кузнецов П.Г. Наука развития Жизни. Т. 2. Постижение закона. — М.: РАЕН, 2015. — 460 с.
- Кузнецов П.Г. Наука развития Жизни. Т. 3. Правильное применение закона. — М.: РАЕН, 2015. — 560 с.
- Кузнецов П.Г. Наука развития Жизни. Т. 4. НИР «Эффективность». — М.-Дубна: Русское космическое общество (РКО) – Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, 2020. — 379 с.
- Кузнецов П.Г. Наука развития Жизни. Т. 5. Введение в сетевое планирование. Работы разных лет. — М.-Дубна: Русское космическое общество (РКО) – Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, 2021. — 318 с.
- Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. 2-е изд. / пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 384 с.
- Лебег А. Об измерении величин / пер. с фр.; 3-е изд. — М.: КомКнига, 2005. — 200 с.
- Образцова Р.И., Кузнецов П.Г., Пшеничников С.Б. Инженерно-экономический анализ транспортных систем. — М.: Радио и связь, 1996. — 192 с.
- Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / пер. с фр. А.Ю. Коннова. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 136 с.
- Социальная стратификация: основные положения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.pitirim.org/index.php/theories-pitirim-sorokin/social-mobility, свободный.
- Урри Дж. Мобильности / пер. с англ. А.В. Лазарева; вступ. статья Н.А. Харламова. — М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2012. — 576 с.
- Ханна П. Коннектография. Будущее глобальной цивилизации / пер. с англ. Э. Кондуковой. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 432 с.
- Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом… — М.: Путь, 2001. — 368 с.
- Burniston Brown G. A new treatment of the theory of dimensions. Proc. Phys. Soc., 1941, vol. 53, pp. 418-432. doi: 10.1088/0959-5309/53/4/307.
- Couch D.L., Robinson P., Komesaroff P.A. COVID-19 — Extending Surveillance and the Panopticon. Bioethical Inquiry, 2020, vol. 17, pp. 809-814. doi: 10.1007/s11673-020-10036-5.
- Keshet Y. Fear of panoptic surveillance: using digital technology to control the COVID-19 epidemic. Isr J Health Policy Res, 2020, vol. 9, 67. doi: 10.1186/s13584-020-00429-7.