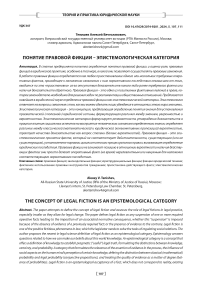Понятие правовой фикции - эпистемологическая категория
Автор: Тенишев А.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 5 (80), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка определения понятия правовой фикции и оценка роли правовых фикций в юридической практике, особенно в той мере, в какой они позволяют осуществлять правовые изменения. В работе правовые фикции определяются как любое приостановление одного или нескольких требуемых оперативных фактов, приводящее к наложению связанного с ним нормативного последствия независимо от того, вводится ли эта «приостановка» из-за отсутствия доказательств какого-либо ранее требуемого факта или наличия доказательств обратного. Правовая фикция - это одно из позитивных фиктивных явлений в праве, которое законодателю необходимо для решения задач по регламентации общественных отношений. Предлагается новейшее в юридической науке определение правовой фикции как эпистемологической категории. Эпистемология отвечает на вопросы, связанные с тем, как мы можем сделать наши убеждения в отношении этого мира знаниями. Эпистемологическая категория - это концепция, предлагающая определение понятия знания для установления прагматической («полезной») юридической истины, формулирующая различия между знанием, уверенностью и вероятностью. Эпистемологическая категория формулирует релевантность утверждения доказательств в процессе влияния социальных аспектов на восприятие человеческим сознанием определенного знания, определяет различие между классической (математической) и юридической (конъюнктивных пропозиций) вероятностью, трактует качество доказательства как вопрос степени (баланс вероятностей). Правовая фикция - это эпистемологическое принятие факта, который не соответствует действительности, существующим (или не существующим), установленное нормами цивилистического процессуального права и вызывающее определенные юридические последствия. Правовые фикции не занимают позицию в отношении вероятности наличия действующих фактов: они просто делают оперативный факт (на время) нерелевантным или ненужным для наложения соответствующего нормативного последствия.
Правовая фикция, законодательные фикции, юриспруденциальные фикции, фикции юридической техники, фиктивное использование правовых инструментов гражданами, приостановка действующего факта, эпистемологическая категория
Короткий адрес: https://sciup.org/14132273
IDR: 14132273 | УДК: 347 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_5_107_111
Текст научной статьи Понятие правовой фикции - эпистемологическая категория
П рием юридической техники, квинтэссенцию которого пытаются понять и изложить ученые и практики на протяжении многих веков, – правовая фикция. Рассматривая правовую фикцию, необходимо решить две фундаментальные юридические проблемы. Во-первых, дефиниционную – очертить объект анализа; во-вторых, оценочную – понять и оценить функцию, которую играют правовые фикции в судебной практике. Правовые фикции можно встретить во многих, если не во всех, правовых системах мира. Это можно объяснить тем, что правовая фикция – это устройство, которое формируется из необходимости, часто – из обязанности вынести свое решение по спору таким образом, чтобы соблюсти последовательность (некоторый уровень предсказуемости и стабильности) и вместе с тем стремиться быть полезным в отправлении правосудия. Хочется заявить некую нравоучительную сентенцию: правовые фикции создаются в угольном горне правовых изменений, которые служат двум хозяевам, – консервативному давлению системы и зову пострадавших, требующих защиты. Теоретики, которые пытались классифицировать правовые (юридические) фикции (например, Лон Фуллер, выдающийся философ, автор книги «Мораль права»), говорили о законодательных фикциях, принятых или созданных законодательной властью; юриспруденциальных (например, вымысел о том, что Пленум Верховного Суда РФ никогда не создавал по смыслам права новую норму); фикциях юридической техники (понятия юридического права и обязанности, юридических полномочий и обязательств, правосубъектности), о которых Фуллер говорил, что они «представляют собой устройства по сути аналогичные понятиям точных наук» [1], таких как энергия, материя и сила тяжести, и о фиктивном использовании правовых инструментов гражданами (например, законом Двенадцати таблиц было установлено, что если сын трижды продан своим отцом и трижды освобождался своим хозяином, он становился свободным) [2].
Американский (эмерит) профессор Оливер Митчелл определял юридическую фикцию как «средство достижения желаемых правовых последствий или избежания нежелательных правовых последствий» [2], разделяя такие средства на три вида: «использование одного или нескольких существующих законов в непредвиденном и непредусмотренном изначально виде», что как раз и относится к приве- денному выше примеру трех фиктивных продаж; утверждение, что определенные факты существуют или не существуют вопреки истине, имея в виду юрисдикционные фикции; фикции отношения, суть которых заключается в атрибуции (например, перенос ответственности с хозяина на слугу).
Офиктивном использовании гражданами правовых инструментов говорится в иудейском и исламском праве, где они называются «хиял» и негативно характеризуются как фиктивные сделки либо защищаются как творческие решения, необходимые для предоставления средств правовой защиты тем, кто их ищет [3].
Определяя понятие фикции, Фуллер писал, что «вымысел – это либо утверждение, произнесенное с полным или частичным осознанием его ложности, либо ложное утверждение, признанное полезным» [1]. Идею о полезности вымыслов можно встретить в эпистемологическом прагматизме: если мы не знаем точного ответа на вопрос и у нас возникло сомнение, в результате мы будем сомневаться без точного знания (истинного знания); это сомнение может быть урегулировано с помощью истины, а истина и есть полезность наших верований. Из этого следует, что нечто может быть вымыслом, если оно удовлетворяет одному или другому из двух совершенно разных критериев, а это, в свою очередь, указывает на то, что, по мнению Фуллера, существуют два совершенно разных значения «вымысла». На первый взгляд определение охватывает два совершенно не согласующихся элемента, но в нем есть и объединяющая черта. Эта черта заключается в том, что полезность вымыслов зависит от осознания или хотя бы полуосознания ложности.
Интересное определение можно найти у судьи Верховного Апелляционного Суда Южной Африки, назначенного в свое время самим Нельсоном Манделой, профессора права доказывания и процедуры в университете Претории Пьера Оливье [4]. Под юридической фикцией он понимал «предположение о фактах сознательно, законно и неопровержимо сделанное вопреки фактам, доказанным или вероятным в конкретном деле, с целью приведения в действие определенной правовой нормы или объяснения правовой нормы, причем предположение допускается законом и используется в юридической науке» [5].
Крупный французский юрист Франк определял фикцию как «утверждение ошибочного факта со знанием его ложности» [6].
Представляется более точным сказать, что юридическая фикция – это «приостановка» действующего факта, а не «предположение», если известно, что существуют доказательства того, что свидетельствует об обратном. Кроме того, «приостановка», вероятно, лучше отражает временный характер фикции. Общее определение Оливье, особенно ссылка на предположения, сделанные вопреки вероятным фактам, опасно приближала его к тому, чтобы не признать различия между фикциями, с одной стороны, и презумпциями – с другой. Как утверждали римляне, «…презумпция есть выражение того, что происходит чаще всего» [7]. Чтобы разграничить презумпции и фикции, нужно действовать acontrario (от обратного). Доктор юридических наук В.К. Бабаев указывал на некоторые соотношения между презумпциями и фикциями: «…И те, и другие условно принимаются за истину (сходство между ними будет тем больше, чем меньшую степень вероятности заключает в себе та или иная презумпция); правовые презумпции и фикции получают нормативное закрепление. Разница заключается в характере образования и степени достоверности закрепляемых положений» [8]. При установлении фикции существующим предполагается заведомо не существующий факт, а при установлении презумпции предполагается существующий факт, относительно которого неизвестно, имеет ли он место в данном конкретном случае.
Оливье, к слову сказать, не первый, кто ссылался на предположения. Убальдис, итальянский юрист XIV века, называл юридические фикции «ложными предположениями, которые, как известно, противоречат истине» [9]. Оливье детально дифференцирует свое понимание фикции от «аналогичного применения норм (например, если присутствует факт A, применяются нормы, применимые к факту Б» на том основании, что «не существует ложных фактов»); или от метафор и символических выражений, которые пытаются описать правовые институты или понятия, но которые не требуют ложного фактического допущения (например, предписание «бежит»); или от «абстрактных понятий, касающихся права или правовых институтов (например, концепция субъективных прав)» [5]. При этом, принимая во внимание определение Оливье, можно ли игнорировать такую категорию, как «вероятные факты», и вообще понятие вероятности в его юридически-философском смысле? Например, рассматривая римско-голландское право, Оливье говорит, что фикцией является то, что «незаконнорожденный ребенок не имеет отца и не наследует по завещанию своего отца или родственников отца» [2]. Очевидно, что не может быть и речи о вероятности того, что у ребенка нет отца. Или что «незаконнорожденный ребенок узаконивается последующим браком его родителей, основанным на фикции, что родители вступили в брак до рождения ребенка» [5]. Опять-таки необходимости в фикции не возникает, если не будет известно, что родители не вступали в брак до рождения ребенка (или не будет известно, вступали ли). Эта фикция также является хорошим примером сохранения общего принципа, в данном случае нормативного одобрения в обществе важности брака до рождения ребенка. Для полной ясности скажем: в данном случае действие факта «брак до рождения» приостанавливается, но общий принцип не формулируется, что позволяет избежать одобрения этой практики; или что «последующая ратификация договора несовершеннолетнего опекуном делает договор действительным, основываясь на фикции ретроактивности». Здесь не стоит вопрос о вероятности валидации, так как несовершеннолетний не может юридически подтвердить договор, не говоря уже о физическом подтверждении, поскольку он младенец. Это отличный пример того, когда доказательство намерения требуется в соответствии с действующими фактами и когда для достижения того, что считается справедливым результатом в конкретном случае, это требование приостанавливается.
О природе фикций писал также королевский адвокат FBA, профессор гражданского права Оксфордского университета Питер Биркс в своей работе «Фикции древние и современные» [10]. Биркс работал с формой действия, которую он считал образцовой для понимания юридических фикций, – действием по выплате денег. Сначала это действие ограничивалось обстоятельствами (operative facts), в которых 1) имело место «требование (заплатить третьему лицу)»; 2) имелось «обещание ответить» [2]. Со временем эти постановляющие факты были исключены, так что даже при наличии доказательств обратного (то есть доказательств отсутствия просьбы и обещания) можно было использовать ту же форму иска для возврата денег. Биркс писал, что cуды выдумали требование в иске о выплате денег и тем самым сделали иск доступным для истцов, не имевших никаких контактов с ответчиками, от имени которых они утверждали, что выплатили деньги. Другими словами, фикционализация требования позволила сделать иск доступным в области бездолговой задолженности. Например, Биркс изучил дело Exallv Partridge, возбужденное в 1799 году: истец оставил свою карету у ответчика для ремонта. После этого арендодатель ответчика забрал карету в свое владение, воспользовавшись своим правом на выселение за задолженность по арендной плате. Чтобы выкупить свою карету, истец должен был выплатить арендодателю сумму арендной платы, которую должен ответчик... Истец, несомненно, выплатил деньги в пользование ответчика, но не по «особому указанию и просьбе» последнего и не при обстоятельствах, позволяющих сделать вывод об обещании вернуть долг.
Суд счел, что иск истца о выплате денег может быть успешен: истец мог обосновать утверждения о просьбе и обещании, доказав не только то, что своей выплатой он принес пользу ответчику, но и то, что он сделал это не по своей воле. На основании этих фактов он мог бы показать, что не предоставил выгоду добровольно, указав на «законное принуждение, оказанное на него арендодателем» [10]. Данное дело демонстрирует, как приостановление судом действия определенных резолютивных фактов может быть поставлено в зависимость от доказательства других фактов, прямо не указанных в исковой форме. На основании этого дела Биркс обобщил анализ механизма работы юридических фикций, который и сегодня можно встретить в разных правовых семьях: «Истец выдвигает обычное требование, в котором перечислены A, B, C и D; ему разрешается выиграть, доказав только B и С, или, вероятно, B, C и Z должны, по закону, приводить к тем же последствиям, которые уже приписаны A, B, C и D. Поскольку определение достигается за изложением A, B, C и D и истцы в последующих делах продолжают излагать старые факты даже при намерении выдвинуть новые, формой развития событий является фикцио-нализация A и D». По всей видимости, под «фикциона-лизацией A и D» Биркс подразумевал не то, что больше нельзя предъявить иск на основании фактов A, B, C и D, а лишь то, что есть другой способ достичь тех же нормативных последствий, – путем доказательства фактов B и C или B, C и Z.
Профессор Кембриджского университета, английский историк права Джон Бейкер писал: «Суть классической фикции заключается в том, что доказательство определенного факта, заявленного в иске, полностью исключалось простым отказом от любых способов его оспаривания» [11].
В нашем же представлении к определению понятия правовой фикции нужно подойти через призму философско-методической дисциплины – эпистемологии. Юридические фикции в данной статье рассматриваются как часть того, что можно понимать как изучение эпистемологии общего права. Еще американский философ Джеральд Постема писал: «Право – это не набор правил и законов, а практическая система практических рассуждений… Его правила могут быть сформулированы, но, вероятно, ни одна формулировка не является окончательно авторитетной; каждая из них уязвима для оспаривания и пересмотра в ходе аргументированных доводов и споров в публичном судебно-экспертном контексте» [12].
Предлагается новейшее в юридической науке определение правовой фикции как эпистемологической категории. Правовая фикция – это эпистемологическое принятие факта, который не соответствует действительности, существующим (или не существующим), установленное нормами цивилистического процессуального права и вызывающее определенные юридические последствия.
Список литературы Понятие правовой фикции - эпистемологическая категория
- Fuller L. Legal Fictions. 1930-31 // Illinois Law Review, № 25, 905 p.
- Oliver Mitchell. The fictions of the law: Have they proved useful or detrimental to its growth? // Harvard Law Review, 1893, № 7, pp. 249-265.
- Horii S. Reconsideration of legal devices (hiyal) in Islamic jurisprudence: The Hanafis and exits // Islamic Law and Society, 2002, vol. 9, № 3, pp. 312-357.
- Die Appelafdeling: Regter Pierre Olivier, 1995, № 8, pp. 60-61.
- Olivier P. Legal Fictions in Practice and Legal Science. Rotterdam: Rotterdam University Press, 1975, 176 с.
- Frank J. [1930] Law and the Modern Mind. New Brunswick: Transaction Publishers, 2009.
- Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права // Государство и право. 1984. № 1. С. 104-105.
- Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький: Изд-во горьковской высшей школы МВД СССР, 1974. 124 с.
- Jones John W. A Historical Introduction to the Theory of Law. Oxford: Clarendon Press, 1940.
- Birks P. Fictions Ancient and Modern. N. MacCormick and FP. Birks (eds.). The Legal Mind: Essays for Tony Honore. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Baker J. The Law’s Two Bodies: Some Evidential Problems in English Legal History. Oxford: Oxford University Press, 2001, 197 с.
- Postema G. Classical Common Law Jurisprudence (Part 2) // Oxford University Commonwealth Law Journal, 2003, № 3, pp. 1-28.