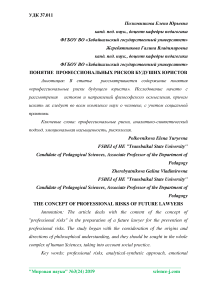Понятие профессиональных рисков будущих юристов
Автор: Полковникова Е.Ю., Жеребятникова Г.В.
Журнал: Мировая наука @science-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 3 (24), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается содержание понятия «профессиональные риски будущего юриста». Исследование начато с рассмотрения истоков и направлений философского осмысления, причем искать их следует во всем комплексе наук о человеке, с учетом социальной практики.
Профессиональные риски, аналитико-синтетический подход, эмоциональная насыщенность, рискология
Короткий адрес: https://sciup.org/140264312
IDR: 140264312
Текст научной статьи Понятие профессиональных рисков будущих юристов
Исследование подготовки будущего юриста к профилактике профессиональных рисков вызывает необходимость выявления теоретического содержания понятия «профессиональные риски». Аналитико-синтетический подход к исследованию состояния проблематики профессиональных рисков будущего юриста предполагает философское осмысление представлений о человеке и его социальных характеристиках в контексте изучения роли рисков в его жизнедеятельности.
В рамках данного изыскания в качестве предмета исследования выступает система подготовки будущего юриста к профилактике профессиональных рисков, системообразующим элементом которой выступает субъектность. Это означает, во-первых, что субъектность юриста воспринимается как источник деятельности, конструирующий межличностные взаимодействия, которые включают отношения риска. Во-вторых, под субъектностью подразумевается его активность, целостность и автономность (А.В. Брушлинский, Н.Е. Максимова, И.О. Александров, И.В. Тихомирова). Рассматриваемые дефинитивные характеристики позволяют предупреждать риски посредством самосовершенствования. Юрист является не только субъектом деятельности вообще, но субъектом собственного образа, который активно и осознанно строит, создает, с учетом восприятия других людей и целей своей профессиональной деятельности. В-третьих, специфика субъектности юриста заключается в том, что он вступает во взаимодействие с субъектами и объектами опосредованно и непосредственно в условиях неопределенности.
Проблематику субъекта можно вычленить из более широкого круга вопросов, связанных с феноменами личности, уже начиная с ранней античности. В досократовский период эта проблематика в свернутом виде присутствует в учениях и воззрениях античных мыслителей, как элемент наивной антропологии.
Как известно, с VI в. до н.э. в Древней Греции происходит разложение традиционного типа социальности, предполагавшего относительно жесткое разделение сословий и веками передаваемый из поколения в поколение уклад жизни. Риски традиционного уклада остро поставили проблему личностной идентичности, потребовали от индивида самостоятельной выработки жизненной позиции, что получило отражение в дошедших до нас текстах. В.Виндельбанд называет этот период «временем рефлексии»: «нарушена простодушная преданность обычаям старины; народное сознание перевернуто до основания; личность прокладывает себе собственный путь» [1]. При этом индивидуалистические тенденции выражают не распад социальных связей, а становление нового типа социальных взаимодействий, включающих отношения риска. Эти тенденции нередко выражаются в поведении философов, которые придают своим поступкам, поведению, образу жизни характер неопределенности, рассчитанный на создание атомосферы непредсказуемых результатов, чему немало примеров можно найти в жизнеописаниях древнегреческих философов [3].
Детищем разложения традиционного уклада мифологии стала древнегреческая философия, которая была «с самого начала глубоко укоренена в жизненном мире человека» [2]. О сколь бы абстрактных и вне личностных предметах ни рассуждал философ, какими бы отвлеченными не представлялись его рассуждения, «они не случайно всегда завершаются учением о том, как следует человеку жить, в чем смысл и оправдание его деятельности» [8].
Особое значение в античной антропологии занимало понятие калокагатии, происходящее от греческих слов calos — «красивый», «прекрасный» и agathos — «хороший», «добрый». Впервые это понятие встречается в изречениях, приписываемых Солону [10]. В последствии к нему прибегали многие древние авторы. Наблюдая изменение значения термина «калокагатия» от Солона до Аристотеля, А.Ф.Лосев пришел к выводу, что калокагатия - самое яркое выражение классического идеала.
«Калокагатия — это гармония внутреннего и внешнего, «души» и «тела». При этом содержание «внутреннего» в калокагатии, «души» — тоже телесно. Самообновление живой телесной стихии, живое тело как самоцель — вот что является исходным пунктом для понимания античной калокагатии» [15].
Особый аспект античных представлений о человеке и его социальных характеристиках приходится на классический период древнегреческой истории (V-IV вв. до н.э.). Афинские мыслители этого периода рассматривают антропологическую, педагогическую, психологическую, социальную, политическую, юридическую проблематику в едином ключе, выстраивая целостное учение о человеке как развивающемся, совершенствующемся члене социума, который, в свою очередь, также стремится к совершенству. Древние ученые рассматривали проблему идеального человека в контексте учений об идеальном обществе и государстве, которое и должно было, по их мысли, посредством соответствующей системы воспитания, воспроизводить этот идеальный тип.
Определенный вклад в проблематику образа субъекта внесли софисты, которые впервые на теоретическом уровне поставили вопрос о значении индивидуальности, а также предложили более радикальную интерпретацию идеи о сотворении человеком самого себя в качестве существа, принципиально отличающегося от животного, причем не только как индивида, но как родового существа, члена государственной общности.
По всей вероятности именно учение софистов побудило Платона к разработке проблематики субъектности, благодаря чему стало возможным формулирование концепции самопознания как формирования представления субъекта о собственном «Я» через отражение в другом субъекте. В диалоге «Алкивиад 2» Сократ, толкуя известную надпись в храме Аполлона в Дельфах, говорит устами Сократа, что, «если глаз желает увидеть себя, он должен смотреть в другой глаз», душа же, «если она хочет познать самое себя, должна заглянуть в душу».[11]
Сосредоточивая свое внимание на явлениях самопрезентации и достигаемого посредством нее влияния, Ч. Кули развивает «аристотелевскую» линию исследования образа субъекта. Его последователь Дж. Мид, которого справедливо называют «отцом» символического интеракционизма, в противоположность ему, строит свою концепцию самости в русле «платоновской» линии трактовки самопознания (самореализации) субъекта посредством его отображения в другом.
Э.Фромм вплотную приближается к проблематике рисков с позиции социальной практики, которая не способствует самореализации и самосовершенствованию субъекта, его прогрессивному личностному развитию.
Проблема подготовки будущего юриста к профилактике профессиональных рисков, соответствующей социальному заказу, всегда была и сегодня остается одной из актуальных. И если не так давно при ее решении приоритет отдавался совокупности профессиональных знаний, умений и навыков, то сегодня внимание ученых привлекает целостная система подготовка студента-юриста, при взаимодействии структурных компонентов которой формируется феномен готовности субъекта к профилактике рисков.
Процесс личностно-профессионального развития длителен и включает следующие этапы: выбор профессии, этапы разведки и апробирования своих сил в разных сферах, этап овладения овладение профессией, этап сохранения и повышения квалификации, упрочение профессиональных позиций, овладение мастерством, творчеством, достижение определенных социально признанных стандартов в профессиональной деятельности и признанного профессионального статуса, профессиональное и социальное самоутверждение человека в соответствии с уровнем его квалификации.
Б.Г. Ананьев, рассматривая стадиальность развития индивидуального сознания, отмечал, что общим в различных формах творческой деятельности человека является субъективное отношение к труду как главной ценности, образующей внутренний мир человека.[5.4]
Одной из характеристик человека как субъекта и личности является его трудоспособность, которая определяется Б.Г. Ананьевым, как синтез функциональной работоспособности организма и его приспособленности к определенным условиям работы и профессии.
К числу должностей риска относят организационную работу, которая требует нервно-психического и умственного напряжения, адекватного уровня продуктивности ума, его широты, инициативности и сообразительности, быстроты принятия решения, целенаправленной организованности. Организация коллективных усилий всегда связана с преодолением риска, обусловленного внешними препятствиями и конфликтами.
Е. Б. Фанталова (1992) полагает, что мотивационная сфера зависит от характера соотношения между параметрами «ценность» (Ц) и «доступность» [7]
Максимальное расхождение между ними дает основание для предположения о присутствии стойкого, глубокого внутреннего конфликта. Если ценность неинтересна человеку и легкодоступна, то возникает состояние «внутреннего вакуума», душевной пустоты. Побудительная сила цели обусловлена наличием жизненной перспективы.
Монотонность труда, чувство бесперспективности, утомление, подавленность, отчаяние, чувство беспомощности перед лицом жизненных трудностей, неуверенность в своих возможностях оказывают влияние на функциональные состояния человека, что в свою очередь снижает его мотивационный потенциал.
Эмоциональная насыщенность, когнитивная сложность межличностных взаимодействий, напряженность профессиональной деятельности приводят к потере энтузиазма, интереса к делу, то есть к снижению мотивационного потенциала.
Эффективность тесно связана с работоспособностью человека. Работоспособность понимается как «одно из основных социально - биологических свойств человека, отражающих его возможность выполнить конкретную работу в течение заданного времени и с требуемой эффективностью и качеством» (Бодров, 1987, С. 108). [7]
В содержании работоспособности отражаются производительность труда и функциональные возможности организма человека (Алишев, Егоров, 1984). Особое значение имеет выяснение субъективного состояния работающего (наличие ощущения усталости, вялости, болезненные ощущения, жалобы); изучение функционального состояния работающего в течение смены, до и после работы. Как показывают исследования, работа эффективна при оптимальном темпе работы, этот оптимум всегда лежит несколько ниже максимальных возможностей организма.
Показатели измерения работоспособности могут быть прямые и косвенные. Эффективность и надежность выполнения профессиональных задач или отдельных действий в условиях реальных профессиональных ситуаций и в ходе решения особых тестов на отдельные элементы деятельности - это прямые показатели работоспособности.
Косвенные показатели отражают текущее функциональное состояние (в процессе деятельности или покоя и по самооценке в анкетах), а также показатели резервных возможностей человека при проведении нагрузочных проб, степени напряжения, компенсаторные возможности и др. (Бодров, 1987, С. 110). Эффективность личностно-профессионального развития немыслима без оценки потенциальной работоспособности (динамики профессионального развития, совершенствования профессиональных значимых качеств и функций) (там же, С. 109),
Работоспособность в целом зависит от ряда факторов — от состояния мотивации и направленности личности, от способностей и от умения человека мобилизовать свои возможности, от функциональных состояний и от величины резервных возможностей, здоровья, выносливости человека, от профессионального опыта, уровня развития, пластичности, устойчивости специальных знании, умении, навыков (Бодров, 1987, С. 108). А.К. Попов подчеркивает значимость тренируемости (А.К. Попов, 1985, С. 7), позволяющей выполнять работу при различных функциональных состояниях. Внешние факторы — социально-профессиональная среда, тип профессиональной организации, ситуативные факторы.
При антропоцентрической ориентации, в отличие от машиноцентрической (уподобление человека машине), ошибка допускается как характеристика поисковой деятельности. Нестандартный поиск предполагает возможность продуктивных ошибок.
В зарубежной и отечественной литературе личность рассматривается как система индивидуального функционирования, индивидуальных действий и поступков, мотивов, взглядов и убеждений. Ключевым отличием этой системы является неповторимость, индивидуальность. Д. Мануссон и Б. Тористэд в качестве системообразующего признака личностной системы, в любых ее проявлениях, рассматривают самовосприятие, т.е. представление человека о роли собственного образа в профессиональных проявлениях и действиях.
Процесс личностно-профессионального развития будущего юриста в рамках рискологии не ограничивается процессом профессионального самоопределения, т.е. формированием склонностей человека к определенной профессиональной деятельности, набором психологических черт и характеристик, обеспечивающих совместимость личности с профессиональной средой. Результатом этого процесса должно быть формирование готовности студента-юриста к профилактике профессиональных рисков.
Список литературы Понятие профессиональных рисков будущих юристов
- Афанасьев И.А. Социальный риск: методологические и философско-теоретические аспекты анализа: Автореф. дис. канд. философ, наук. Саратов, 2004. 21 с.
- Ахмеров С.Р. Социальный риск как предмет социологического анализа: Автореф. дис. канд. социол. наук. Саратов, 2000. Базовые ценности россиян: социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы / Отв. ред. А.В. Рябов, Е.Ш. Курбангалеева. М.: Дом интеллектуальной книги, 2003.
- Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Изд-во «Весь Мир», 2004.
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
- Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001.
- Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь Мир, 2004.
- Заславская Т.И. Современное российское общество. Социальный механизм трансформации. М.: Дело, 2004. 403с.
- Зубков В.И. Риск как предмет социологического анализа // Социологические исследования. 1999. № 4.
- Зубок Ю.А. Общество риска молодежная составляющая социальной интеграции // Безопасность Евразии. 2001. № 1.
- Исаев И. «Общество риска» в условиях глобализации // Социологические исследования. 2001. № 12.
- Кайт Ф. Понятие риска и неопределенности // THESIS. 1994. № 5. Ковалева М.С. Эволюция понятия «риск» // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 1.
- Левашов В.К. Устойчивое развитие общества: Парадигма, модели, стратегия. М.: Academia, 2001. 455 с.
- Луман Н. Понятие риска / Пер. А.Ф. Филиппова // THESIS. 1994.5.
- Мозговая А.В. Социология риска: возможности синтеза теории и эмпирическиого знания // Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. М.: Институт социологии РАН, 2001. 703 с.
- Никитин С., Феофанов К. Социологическая теория риска: в поисках предмета// Социологические исследования. 1992. № 10. С.23-28.