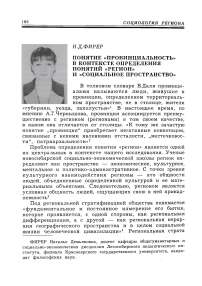Понятие "провинциальность" в контексте определения понятий "регион" и "социальное пространство"
Автор: Фирер Наталья Демьяновна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 1 (50), 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется соотношение понятий «социальное пространство», «регион» и «провинция» как общее, своеобразное и индивидуальное в определении социального пространства. Создана модель провинциальности, включающая социально-территориальную сущность с групповой идентификацией и комплексом социально-генетических особенностей. Он представляет собой особую субкультуру со своеобразным менталитетом, ценностями и профессиональной деятельностью.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222900
IDR: 147222900
Текст научной статьи Понятие "провинциальность" в контексте определения понятий "регион" и "социальное пространство"
В толковом словаре В.Даля провинциалами называются люди, живущие в провинции, определенном территориальном пространстве, не в столице, жители
«губернии, уезда, захолустья»1 В настоящее время, по мнению А.Г.Чернышова, провинция ассоциируется преимущественно с регионом (регионами) в том своем качестве, в каком она отличается от столицы. «К тому же зачастую понятие „провинция" приобретает негативные коннотации, связанные с некими явлениями отсталости, „местечковос-ти", патриархальности»2
Проблема определения понятия «регион» является одной из центральных в контексте нашего исследования. Ученые новосибирской социально-экономической школы регион определяют как пространство — экономическое, культурное, ментальное и политико-административное. С точки зрения культурного взаимодействия регионы — это общности людей, объединенные определенной культурой и ее материальными объектами. Следовательно, регионом является условная общность людей, ощущающих свою к ней принадлежность3
Под региональной стратификацией общества понимается «фундаментальное и постоянное измерение его бытия, которое проявляется, с одной стороны, как региональная дифференциация, а с другой — как региональная иерархия географического пространства и в целом социальной жизни человеческой цивилизации»4- Региональная страта
ФИРЕР Наталья Демьяновна, доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Лесосибирского педагогического института, филиала Красноярского государственного университета, кандидат философских наук.
политической жизни — сфера существования традиций повседневности, незримо, в архетипических формах хранящих опыт предшествующей истории данного сообщества. Архетипами политической жизни являются исторически сложившиеся взгляды, навыки, привычки политической деятельности, коллективно-бессознательные по происхождению, но индивидуально-личностные по способу своего эмпирического проявления. Они составляют содержание коллективной памяти жителей региона и исподволь предопределяют установки, ориентации и действия участников текущего политического процесса.
Предшествующая политическая история региона детерминирует его жизнь «здесь и теперь» еще и тем, что оставляет после себя приспособленные к определенному порядку функционирования институты и учреждения, правовые и моральные нормы, которые, наряду с архетипическими образованиями культуры, структурируют политическое пространство региона.
Провинциальность же можно обозначить архетипами политической жизни, которые составляют содержание коллективной памяти людей, живущих на периферии, предопределяющие установки, ориентации и действия провинциального сообщества.
Анализ научной литературы показывает, что термин «регион» многозначен: в социально-экономической географии, в региональной экономике, теории государственного управления, политологии под ним подразумеваются подчас весьма различные понятия5.
В геополитике словосочетанием «геополитический регион» обозначается либо страна, либо группа стран, территориально и экваториально близлежащих, с исторически сложившимися, устойчивыми политическими, военными, конфессиональными и этническими связями. Однако в ряде современных постклассических геополитических исследований под регионом понимается и часть государства. Следует отметить, что геополитика в своем обширном понятийном аппарате важнейшее значение придает категории пространства, рассматривая не только физические характеристики пространства, но «именно человеческий элемент», одушевляющий пространство.
Социологическое понимание региона исходит из того, что, будучи социально-территориальной системой, регион должен обладать социально-пространственной общностью организации проживающего в его рамках населения. Отличаясь своеобразием природных условий, сложившейся специализацией производства, определенным уровнем развития производительных сил, производственной инфраструктуры, регион в то же время характеризуется спецификой социальной структуры и инфраструктуры, а также образа жизни населения. Территориальная дифференциация природных условий составляет естественную основу общественного (территориального) разделения труда, исторически закрепленного, находящего продолжение в своеобразии социальных условий жизни и в социальном облике населения.
Отечественная история смысловые контуры понятия «регион» определяет через отличие его от административно-территориальной единицы. Ю.Светов трактует: «Регион — территория, отличающаяся характерным направлением развития экономико-географических, социально-демографических, национально-культурных и политических структур, совпадающая или несовпадающая с административным делением государства»6 Если административная единица формируется условиями извне, задаваясь государственной властью, то регион возникает как результат самоорганизации, и, значит, граница региона — это граница специфической исторической деятельности людей, который данный регион формируют. Из этого следует, что и административная единица, и регион — это пространства, но разные, они могут совпадать или не совпадать на конкретной территории. Однако их объединяет то, что К.Хаусхофер обозначил как «жизненное пространство», т.е. минимальный территориальный объем, позволяющий народу достичь реализации своих исторических и политических стремлений7 В качестве синонимов можно использовать такие понятия, как «общественное пространство», «пространство общества», «пространство жизни человека», «пространственный фактор общества», «пространственная сторона общественных явлений», «пространство социальной деятельности». Это прежде всего пространство социальное, связанное «с деятельностью социального субъекта». Социальное пространство «есть некая вселенная, состоящая из народонаселения земли, — говорит П.А.Сорокин. — Там, где нет человеческих особей или же живет всего лишь один человек, там нет социального пространства (или вселенной), поскольку одна особь не может иметь никакого отношения к другим.... Соответственно определить положение человека или какого-либо социального явления в социальном пространстве означает определить его (их) отношение к другим людям и другим социальным явлениям...»8
В.Н.Порус подчеркивает: «Пространство жизни еще более глубоко дифференцированно. Оно несет в себе смысловые различия, соотносимые с многообразием социальнокультурных условий жизни людей»9 Способ организации пространства, с которого начинается культура, он называет Домом. Дом в его трактовке — это окультуренное пространство, «пространство с человеческим лицом». Важнейшим в Доме является не то, что он ограничивает космическое (физическое) пространство, «вырезает» из него нишу пребывания человека, чтобы стать Домом, пространство должно перестать быть физическим, обрести антропоморфные качества. Дом есть Пространство для Человека, неотделимое от человека. Дом — это Мир, но Мир, в котором есть человек.
В.П.Яковлев также утверждает, что «социальное пространство индивида — не то же самое, что социальное пространство коллектива людей, а последнее — не то же самое, что социальное пространство всего общества. Если на социальном микроуровне, т.е. на уровне индивида, пространство — это круг интересов и общения личности, на уровне поколения — сфера его жизни, определяемая существом и характером общественно-исторического бытия и действия современников, то на уровне общества пространство людей есть „общее силовое поле истории11, в котором перекрещиваются и сталкиваются бесчисленные поступки, стремления, интересы следующих друг за другом поколений»10 Допуская, что социальное пространство включает в себя территорию, на которой осуществляются социальные взаимодействия людей, В.П.Яковлев, однако, не сводит его (пространство) к территории, т.е. пространству географическому. От географического пространства социальное отличается тем, что оно есть пространство человеческой деятельности, а «историко-географическая (социально-экологическая) метрика пространства только облекает структурное содержание времени-пространства, выступает следствием, результатом»11 Соотносясь не с экологическими (географическими) единицами пространства, а с определенными социальными системами, социальное пространство отражает взаимодействия, упорядоченность событий и процессов, их насыщенность и охват в пределах структурного целого.
Под социальным пространством также понимается такая форма существования элементов социального бытия, которая объективно закрепляет их положения и связи, обусловленные общественными отношениями, независимо от места их проявления12 В такой же трактовке признаются физическое, географическое и другие пространства лишь в качестве необходимого фона, условия самого существования объектов и элементов социального бытия, локализация общественных отношений, их структуры являются относительными к физическому пространству. Социальное пространство характеризует качественную сторону социальной жизни и содержит в снятом виде характерные признаки физического и других пространств. В.КПотемкин и А.Л.Симанов отмечают, что физическое пространство также «присутствует» в обществе. «Общество не может нормально функционировать, не скоординировав свою деятельность, которая протекает в географическом, физическом и других пространствах, с точки зрения пространственных связей и отношений»13
Таким образом, социальное пространство как поле социальной деятельности — более широкое понятие, охватывающее все уровни общества, включая «совокупность расселенческих единиц общества: городов, деревень, агломераций», а также внутреннее строение человеческих поселений. Социальное пространство формируют общественные отношения, определяя его признаки и основные свойства, оставляя в качестве вторичных, второстепенных и внешних территориальные, географические признаки. Для региона же основным признаком является территориальное разделение труда, исторически закрепленного, находящего продолжение в своеобразии социальных условий жизни и социальном облике населения. Провинция, следовательно, понимается как часть региона, наиболее отстоящая от регионального центра. А.Г.Чернышов, рассматривая отношения «центр — провинция», отмечает, что разрыв между столицей и «окраинными» территориями конкретного региона (района, села, деревни) заметен уже со всей четкостью, приобретая остроту и драматичность. Возникает не просто федеральная и региональная составляющая. Их дополняет «нижний» этаж. Иными словами, мы получаем три уровня: федеральный (центр — столица), региональный (центральный город региона) и провинциальный — все, что останется в регионе за рамками названного выше14 Регион и провинция, различаясь между собой, являются между тем социальным пространством, понимаемым как форма существования социального бытия.
В последнее время все больше внимания уделяется проблеме провинциального пространства, т.к. в его пределах сосуществуют социальные общности, идентифицируемые той же самой территорией. А.Филиппов в социологии пространства главным считает предельную социологию пространства. «Принципы общественной классификации переносятся на организацию пространства, причем общество своим авторитетом навязывает такое видение как само собой разумеющееся»15
В ряде исследований понятие «территориальная общность» синонимично понятию «коммьюнити», широко распространенному в социологической (преимущественно зарубежной) литературе.
Концепция «коммьюнити» — одна из наиболее сложных и противоречивых в современной общественной науке. Е.Е.Го-ряченко приводит различные определения территориальной общности: «...любое множество социальных отношений, осуществляемых главным образом внутри некоторых границ поселений или территорий», «...социальная сеть взаимодействующих индивидов, обычно концентрированных в рамках определенной территории»; «...наименьшая территориальная группа, которая может объять все аспекты человеческой жизни... локальная группа, достаточно обширная, чтобы „включать" все главные институты, все статусы и интересы, которые, может быть, и составляют общество. Это наименьшая группа, которая может быть и часто является обществом»16
Сегодня большинство социологов используют понятие «коммьюнити» для обозначения единиц территориальной организации общества, которые в определенном смысле образуют замкнутую совокупность (деревня, небольшой город, пригородный район и т.п.), иначе говоря — провинцию.
Коммьюнити в провинции рассматривается как территориальная единица, т.е. объединение людей внутри определенного географического ареала, где территория понимается пространственной средой, формирующей условия жизнедеятельности. При этом территория может выступать как независимая переменная, влияющая на жизнь территориальной общности, помогая объяснить местоположение, устойчивость, возникновение и потенциал развития коммьюнити, относительную самодостаточность, т.е. способность удовлетворять свои основные потребности на локальной территории. Вместе с тем территория может рассматриваться и в качестве зависимой переменной, поскольку жители постоянно изменяют территориальную среду, в которой они живут, преобразуют и адаптируют ее к своим потребностям, охраняют, а иногда и уничтожают окружающую природную среду.
В провинции члены коммьюнити идентифицируют себя с данной территориальной общностью, осознают свою причастность к ней, а от нее получают ощущение принадлежности и безопасности.
Исследуя пространственно-временные измерения демократии, А.С.Мадатов указывает, что пространственное измерение включает наряду с природно-географическими условиями, размерами территории и совокупность социально-экономических отношений, а также уровень и характер культуры общества, представляя собой соответственно экономическое и культурное пространство17 Следовательно, провинциализм означает совокупность социально-экономических отношений, уровень и характер культуры провинциального общества.
А.Г.Кислов и И.В.Шапко, анализируя дихотомию «столица — провинция», рассматривают этот феномен в двух ракурсах. «С одной стороны, их различия имеют ресурсный характер — это „разность**, нетождественность сред обитания людей и тех потенциальных возможностей (информационных, статусно-ролевых, общественно-структурных, социокультурных), которые они предоставляют. В такой теоретической перспективе провинция предстает как нечто периферийное, производное, второсортное. С другой стороны, сопряжение центра и провинции наполнено смысловым содержанием — аналитический фокус в этом случае перемещается на свойства, приписываемые конкретным пространственным локусам, на опыты переживания „своего** и „чужого** предела, образы „территорий**»18 Провинциальность, таким образом, обусловлена средой обитания людей, которая в свою очередь определяет специфику их потенциальных возможностей.
Д.Н.Замятин, исследуя географические образы в гуманитарных науках, рассматривает пространство как «культурно-географические образы»19, где пространство выступает как средство репрезентации и интерпретации самой культуры. Он утверждает, что пространство как бы обволакивает культуру и максимально ее актуализирует посредством четкой образной локализации. Посредством интерпретации культурно-географических образов культура глобально «переживается» через географию, происходит своего рода опространствление культуры. Культура в данном случае становится интересной как продукт образно-географических интерпретаций. Исследования Д.Н.Замятина позволяют рассматривать провинциальное пространство как средство репрезентации и интерпретации провинциальной культуры, т.е. провинциальности.
Провинциализм, по мнению А.В.Качкина и Т.Б.Ткаченко, «обнаруживает себя исключительно в сфере созидательной творческой деятельности, в сфере культуры. Локальные сообщества выступают как целостные гармонические образования, обладающие максимально возможной полнотой социальной жизни. Провинция является как бы уменьшенной моделью большого общества: у нее свои наука, искусство, политика, экономическая модель; свои лидеры и герои... При этом собственный „параллельный" мир обладает определенными ценностями, имеющими значение для данного сообщества»20 Смысл провинциальности всегда подразумевал определенную самобытность видения человеком окружающего мира. С точки зрения жителя большого города, суждения «провинциала» могут показаться наивными, что связано с незнанием самых простых вещей. Однако именно эта наивность и непредвзятость делает его ум более гибким и восприимчивым к окружающему миру.
По мнению В.А.Шкуратова, «Провинциализм — не просто факт проживания вне столицы, но синдром маргинальности от принадлежности к двум культурным средам. Провинциал испытывает к столичному свету одновременно влечение и неприязнь. Неполное слияние с нормативной культурой по территориальным причинам напоминает расовую, национальную, социальную сегрегацию. Хотя, разумеется, пространственный антагонизм в обществе менее яростен, чем другие. Провинциальный комплекс, временами очень домашний, проявляется в сочетании с забавной самонадеянностью, внутренней несвободой, стесненностью культурного творчества, постоянной оглядкой на то, как „там"»21
Иное видение провинциальной культуры у А.В.Дахина — «...как рукотворном духовно-предметном комплексе. Эта посылка позволяет сформулировать тезис о том, что во всяком культурном комплексе могут быть выделены центральные („эйдетические") и периферийные („предметно-символические") оболочки. Такова архетипическая диада культуры, которая обнаруживается и как отношение „эйдетическое — предметно-символическое", и как отношение „сакрально-профаническое", и, наконец, как отношение „столичная культура — провинциальная культура"»22 Провинциальную культуру он рассматривает как позднюю историческую ипостась «профанической периферии», в которую традиционно вытеснялись и в которой, затаившись, продолжали свою ценностно-ориентационную работу как мировоззренческие (универсальные), так и частные (технические, эстетические и т.п.) элементы культурных комплексов человеческих сообществ предшествующих эпох. Особенно важным в провинциальной культуре, по мнению
А.В.Дахина, является не только сохранение элементов культуры предшествующих эпох, но и живые элементы мироощущений, мировоззренческих исканий современного человека.
Малый город (провинция), с точки зрения президента союза малых городов Российской Федерации Е.М.Маркова, — «...это тип поселения, лежащий между высокоурбанизированным индустриальным центром и деревней, сочетающий в себе сельские и городские начала»23 Следовательно, провинциальность несет определенную двойственность типологических характеристик своей среды.
Приведенные мнения, помогающие идентифицировать провинциальность, позволяют сделать попытку смоделировать объект исследования, понимая под «моделью» наглядно-образную репрезентацию изучаемого объекта, используемую для получения знания о его сущностных свойствах или параметрах.
Провинциальность же, на наш взгляд, определяется не только совокупностью социально-экономических отношений, присущих периферии, но и комплексом социально-генетических черт, проявляющихся в мышлении, поведении, особой культуре, соединяющей городскую и народную крестьянскую культуру, ценностных ориентациях, профессиональной деятельности.
Список литературы Понятие "провинциальность" в контексте определения понятий "регион" и "социальное пространство"
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 3. М., 1990. С. 472.
- Чернышов А.Г. Центр - провинция в региональном самосознании // Полит, исследования. 1999. № 3. С. 100.
- Бейдина Т.Е. Возможности геополитики в изучении малых региональных дисциплин // Гуманит. науки в Сибири. 2000. № 1. С. 66-69.
- Дахин А.В., Распопов Н.П. Проблема региональной стратификации в современной России // Полит, исследования. 1998. № 4. С. 133.
- Распопов Н.П. Социально-политическая стабильность региона - субъекта РФ // Полит, исследования. 1999. № 3. С. 92.