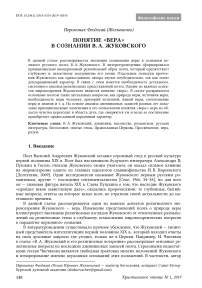Понятие "вера" в сознании В. А. Жуковского
Автор: Желновачев Роман Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 1 (84), 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается эволюция понимания веры в сознании великого русского поэта В. А. Жуковского. В литературоведении сформировался принципиально внецерковный религиозный образ поэта, который препятствует глубокому и целостному восприятию его гения. Отдельные попытки прочтения Жуковского как православного автора звучат неубедительно, так как носят декларационный характер. В связи с этим имеется необходимость детального, системного анализа религиозных представлений поэта. Одним из важных аспектов мировоззрения Жуковского является понятие «вера». В статье раскрывается осознание поэтом таких актуальных вопросов, как природа веры, источник веры, необходимость веры человеку, критерий истинной, живой веры, соотношение веры и знания и т. д. На основе анализа дневниковых записей разных лет показаны принципиальные изменения в его осмыслении понятия «вера»: вера из области чувства переходит в область духа, где смиряются ум и воля; ее постижение приобретает православный церковный характер
В. а. жуковский, дневники, масонство, романтизм, русская литература, богословие, святые отцы, православная церковь, просвещение, вера, разум
Короткий адрес: https://sciup.org/140246668
IDR: 140246668 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10014
Текст научной статьи Понятие "вера" в сознании В. А. Жуковского
Поэт Василий Андреевич Жуковский оставил огромный след в русской культуре первой половины XIX в. Поэт был наставником будущего императора Александра II; Пушкин и Гоголь считали Жуковского своим учителем; он оказал сильное влияние на мировоззрение одного из главных идеологов славянофильства И. В. Киреевского [Долгушин, 2009]. Одни исследователи называют Жуковского первым русским романтиком, другие — последним сентименталистом [Секе, 1966, 34–38], но для всех он — знаковая фигура начала XIX в. Слова Пушкина о том, что наследие Жуковского «пройдет веков завистливую даль», оказались пророческими: те глубинные, бытийные вопросы, ответы на которые искал поэт, не утратили своей актуальности до настоящего времени.
В данной статье рассматривается один из важных аспектов религиозного мировоззрения Жуковского — вера. Изменение представлений поэта о природе веры иллюстрирует эволюцию религиозных взглядов Жуковского от отвлеченных размышлений на религиозные темы к глубокому осмыслению мировоззренческих вопросов в парадигме церковного сознания.
В литературоведении существовало прочное убеждение, что Жуковский — типичный представитель интеллигенции первой половины XIX в., который находил ответы на свои духовные запросы где угодно, только не в Церкви. Например, И. Чистяков в статье «В. А. Жуковский и его религиозные воззрения» рассматривает основные религиозные вопросы из последних дневниковых записей поэта. Серьезными недостатками статьи Чистякова являются свободная трактовка многих положений Жуковского и игнорирование именно церковных оснований этих положений. В частности, автор
приходит к выводу, что на религиозное мировоззрение поэта повлияли темперамент поэта, домашнее воспитание1, Московский благородный университетский пансион, общее мистическое настроение конца XVIII — начала XIX вв. и романтизм [Чистяков, 1916, 1323–1343]. Однако среди этих причин у Чистякова нет ни слова о Церкви.
Другим примером может служить образ Жуковского у протоиереев Василия Зень-ковского и Георгия Флоровского, которые, несмотря на то, что не писали специальных работ, посвященных жизни или творчеству Жуковского, все-таки не смогли обойти эту фигуру в своих известных книгах «История русской философии» и «Пути русского богословия» соответственно. Прот. В. Зеньковский называет Жуковского представителем эстетического гуманизма, который наделяет поэзию религиозной стихией, независимой от Церкви [Зеньковский, 1989, 137–139], а прот. Г. Флоровский создает образ мечтательной, меланхолической и западно-мистической религиозности поэта [Флоровский, 2006, 115–123].
В советском литературоведении, по понятным причинам, «нецерковный» образ поэта становится бесспорным и даже подчеркивается скептическое отношение Жуковского к Церкви и власти [Фридлендер, 1987, 31].
Данные и аналогичные им концепции могли сформироваться, очевидно, только вследствие рассмотрения поэзии Жуковского в отрыве от его жизни. Искусство, и поэзия в частности, занимает огромное место в жизни Жуковского, однако те религиозные проблемы и искания, о которых известно из его дневниковых записей и писем, не ограничивались только эстетическим уровнем. Привлечение этого контекста привело к появлению иной точки зрения. Ярким примером является работа архимандрита Константина (Зайцева), посвященная истории русской словесности. Архим. Константин считает, что Жуковский «сумел возвыситься до церковно-православного сознания» [Зайцев, 1968, 162]. Однако данный вывод архим. Константина звучит несколько неубедительно из-за отсутствия обоснования.
Таким образом, существует необходимость системного рассмотрения различных религиозных аспектов мировоззрения В. А. Жуковского, среди которых следует выделить вопрос веры.
2. Поиск веры
Тема веры всегда волновала Жуковского. В дневниковых записях за 1805 г. встречаются размышления о необходимости веры и о соотношении веры и разума. Главной чертой этих размышлений является сильный акцент на опытном переживании Бога и на чувствах к Нему. Для поэта вера — необходимое условие и средство достижения счастья. Она рождается в слезах и восторге и является следствием внимательного рассмотрения природы и человека, а также осознания величия Творца перед творением. Чувство имеет преимущество перед умом из-за сильной ограниченности последнего: ошибаться — это его природа. Сам поэт признается, что еще не обладает такой верой, но очень желает обрести ее (Жуковский, 2004, XIII, 19).
Это желание исполнилось через несколько лет, в 1813 г., когда Жуковский посетил известного масона И. В. Лопухина, которого считал подлинным христианином2. Целью визита было разрешение «семейного» вопроса о браке Жуковского и Маши Протасовой, дочери его единокровной сестры Е. А. Протасовой. Лопухин одобрил брак, и в восторге Жуковский говорил, что вера стала теперь для него необходима: вера живая, основанная не на словах и внешних обрядах, но на доверии Промыслу и сердечных переживаниях (Жуковский, 2004, XIII, 57–59). Такая реакция вполне объяснима: Лопухин со своей идеей «духовного рыцарства» и «внутренней» Церкви не мог не подвигнуть поэта на духовные поиски твердых оснований жизни, близких и самому Жуковскому в его таинственных, чувственно-мистических исканиях. Однако не следует переоценивать влияние Лопухина на Жуковского. Сильное впечатление от визита 1813 г., которое поэт так красочно описывал, пройдет, и Жуковский снова вернется к поиску веры, о чем напишет в своем дневнике: «Я не имею того, что называется полным понятием о религии. Но желаю верить и буду иметь чистую, достойную человека и Бога веру» (Жуковский, 2004, XIII, 92).
Следует обратить внимание еще на один аспект размышлений молодого поэта на тему веры, это — вопрос соотношения веры и знания, который существует уже не одно тысячелетие. В разное время на него отвечали по-разному. Новое время кардинально меняет парадигму мышления: естественнонаучное мировоззрение вытесняет религиозное. Особенно это относится к эпохе Просвещения, к XVIII в. Истинным провозглашается то, что говорит разум (эпоха самостоятельности разума) [История философии, 2014, 358]. Исторические и культурные потрясения, которыми ознаменовался переход к XIX в., усложнили данную картину. И это отчетливо отразилось в сознании Жуковского. Для него вера не просто не имеет никакого недостатка перед знанием, но стоит выше его. Такое мнение вытекает из представления о способностях души человеческой. Ум, по мнению поэта, — низшая способность души, так как область его функционирования полностью лежит в материальной плоскости и он тотально подчинен закону необходимости: «Путь ума есть путь по железной дороге» (Жуковский, 1985, 329). Если идти по возрастанию, то на следующей ступени «иерархии» способностей души находится воля, так как она свободна, но в рамках нравственного закона. Воля выражается в действиях человека. Еще выше поэт ставит творчество, которое и не ум, и не воля, но все вместе в совокупности с чем-то самобытным, неотмирным. Наконец, на вершине способностей души стоит вера — способность принимать Откровение. Вера смиряет ум и волю, освящает творчество, которое приобретает характер созерцания (Жуковский, 1985, 329–330).
Жуковский не отвергает науку, он только говорит о ее истинном предназначении — вести к Богу. Если наука является лишь самоцелью или ограничивается только практическим применением, то она теряет свое высокое значение и превращается в нечто заурядное и, более того, абсолютно ничего не значащее для жизни вечной. Наука должна объяснять глубокий смысл окружающей действительности (Жуковский, 1902, XI, 15–18).
Таким образом, молодой поэт много размышляет над различными вопросами веры, но, тем не менее, следует признать, что в этот период жизни историческая Церковь мало интересует Жуковского; его представления о вере размыты и не имеют какой бы то ни было определенности. Этот период в жизни поэта можно обозначить как период поиска истины. И действительно, если бы на этом жизнь Жуковского остановилась, то вполне можно было согласиться со всеми выводами, сделанными прот. В. Зеньковским, прот. Г. Флоровским и И. Чистяковым, однако Жуковский продолжал жить и меняться. Его дневниковые записи зрелых лет демонстрируют трансформацию религиозных представлений под влиянием именно церковной мысли.
3. обретение веры
Дневниковые записи 1840-х гг. свидетельствуют о том, что Жуковский уже мыслит в парадигме церковного, святоотеческого сознания. Его рассуждения о вере перекликаются с мыслями свт. Тихона Задонского и свт. Филарета Московского, которые, несомненно, оказали огромное влияние на русскую культуру [Хондзинский, 2016, 7]. Обретенную веру поэт описывает достаточно детально через ее характеристики.
Жуковский говорит, что вера — начало познания. Бог — источник истины. Любой рациональный дискурс, который имеет своей целью нахождение истины, должен начинаться с веры в Бога. Невозможно доказать существование Бога. Наш ум пытается вникнуть в эту тайну, но несоотносимость безграничного Бога и предельного человеческого ума делает невозможным познание бытия Бога без помощи Самого Бога. В этой непостижимости Бога Жуковский видит лучшее доказательство Его бытия (Жуковский, 1902, XI, 3).
У Жуковского понятие «вера» коррелирует с понятием «предание». Это предание начинается от Отца к первому человеку и продолжается до сих пор. Грехопадение затемнило, помрачило «предание»; оно перестало быть очевидным и стало откровенным — перешло из области ума в область веры (Жуковский, 1902, XI, 3–4).
Поэт говорит о вере как о состоянии души человека. Вера, как и душа, неделима, но Жуковский выделяет в ней материальную и духовную стороны, которые он иногда именует двумя актами веры. Материальная сторона представляет собой волевое принятие истин Откровения, смирение ума перед Ним. Духовная сторона — вверение всего себя воле Божией: верить и вверяться означает иметь живую веру.
С живой верой тесно связаны дела веры. В. А. Жуковский, размышляя о словах апостола Иакова (Иак 2:26), говорит, что дела неразлучны с живой верой, что бездеятельная вера есть мертвая вера, но и дела без веры мертвы и представляют собой нечто ущербное, оставляющие душу в состоянии несовершенства и отдаленности от Бога. Таким образом, он приходит к выводу: «Без веры во Христа нет спасения» (Жуковский, 1902, 4. Т. 11). Этот вывод важен, так как ярко иллюстрирует изменение в мировоззрении поэта: если в первых стихотворениях, которые имеют одно название — «Добродетель», добрые дела самодостаточны, они «пред Богом нас прославят, в одежду Правды облекут» (Жуковский, 2004, I, 27), то теперь они имеют цену только при условии веры во Христа [Материалы, 2017, 470–477]. Участь добродетельных людей, которые не имеют веры, Жуковский оставляет Суду Божию, который человеку постигнуть невозможно (Жуковский, 1902, XI, 4–5).
Жуковский говорит, что вера — это акт человеческой свободы, но вместе с тем и дар Бога. Человек добровольно смиряет рассудок и волю перед истинами Божественного Откровения, однако «первый шаг» делается всегда со стороны Бога. Бог открывает Себя человеку, но делает это так, чтобы при этом сохранялась человеческая свобода, поэтому не следует требовать от Бога достоверных доказательств Его бытия, так как вера и очевидность или умственные убеждения несовместимы (Жуковский, 1902, XI, 4–5).
Таким образом, представления Жуковского о сущности веры претерпели ряд серьезных изменений, среди которых следует отметить, во-первых, переход от антропоцентризма к святоотеческой идее соработничества Бога и человека, а во-вторых, появление в сознании поэта связки веры и добрых дел. Следует отметить, что Жуковский говорит именно о христианской православной вере.
4. вера и Церковь
Жуковский пишет: «Наша вера во Христа основана на нашей вере в говорящую о Нем Церковь; сперва нужно покориться Церкви, чтобы узнать Христа и в Него уверовать» (Жуковский, 1902, XI, 6).
Для поэта вера — это способность души принимать Откровение без убеждения, но для того, чтобы что-то принять, требуется посредник между душой и тем, что она принимает, так как нужен тот, кто будет уверять душу принять это. Посредником между Богом и душой Жуковский называет Христа, Который есть и Совершенный Бог, и Совершенный Человек. Христос открывается человеку в Священном Писании, хранительницей которого явилась Святая Церковь, основанная Спасителем (Жуковский, 1902, XI, 6). Речь идет не о «внутренней» церкви Лопухина [Хондзинский, 2016, 61–65], не о каких-либо мистических движениях того времени. Поэт говорит об исторической Церкви — Церкви Православной: «Как мне Церковь на своих Соборах повелела принимать то, что заключается в Святом Писании и какой Символ веры из него истекает, то для меня и остается ненарушимым. <…> [Церковь] богослужением оживляет память Искупления; проповедью толкует слово Святого Писания и вводит его в деятельную жизнь; Таинствами освящает главные акты нашей временной жизни» (Жуковский, 1902, XI, 6). Поэт до конца своих дней сохранит верность Православной Церкви.
Жизнь верующего человека в Церкви для Жуковского неразрывно связана с участием в таинствах (Жуковский, 1902, XI, 12). Лопухин, например, ставит этот вопрос совершенно иначе: подлинные таинства совершаются внутри человека, а таинства Церкви — это лишь указания на «подлинные таинства» [Хондзинский, 2016, 99]. Жуковский же говорит именно о церковных таинствах. Евхаристия для поэта — это Таинство, которое совершается в Церкви, это живая связь человека с Богом: «Он [человек] некоторым образом на мгновение становится лицом к лицу перед Самим Богом, и этот оживотворяющий взор, устремленный от человека на Бога и от Бога на человека, преображает душу во мгновение» (Жуковский, 1902, XI, 12). Господь является в Евхаристии не мысленным образом, а телесным: хлеб и вино становятся Телом и Кровью Спасителя.
Таинству Евхаристии предшествует другое таинство — Покаяние. Встречу человека с Богом в Таинстве Причащения Жуковский сравнивает с евангельским рассказом о благоразумном разбойнике: человек приносит перед Богом покаяние, просит Его милости, и Господь отвечает верующему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23:43). Жуковский выделяет в этом таинстве два акта — представление своих поступков на суд совести, которая может только укорять, но не оправдывать, и исповедание своих грехов священнику, посредством которого Сам Бог принимает обвинения совести и разрешает человека от них (Жуковский, 1902, XI, 13–14).
5. заключение
Таким образом, рассмотрение такого важного для Жуковского понятия, как «вера», делает очевидным тот факт, что в данном вопросе поэт мыслит в парадигме церковного сознания. Религиозные поиски молодых лет венчаются формированием твердого церковного мировоззрения поэта. Бог для Жуковского — это и начало, и конец (Откр 1:8) всей жизни человека. На все явления земной жизни Жуковский смотрит сквозь призму ценностей жизни вечной: «Высокую духовность Жуковский сделал главным смыслом не только своего творчества, но и своей повседневной жизни»
[Иезуитова, 1989, 280]. Вера из области чувства переходит в область духа, где смиряются ум и воля. Эстетическая интерпретация религиозных воззрений поэта становится невозможной. Поэзия, как и любое другое искусство, — это инструмент, который должен приводить человека к мысли о Боге, напоминать о вечности (Жуковский, 1985, 333). При этом духовное «возмужание» В. А. Жуковского, при всем неповторимом своем характере, обусловленном особенностями его уникальной личности, в целом отражало общее движение определенной части русской культуры конца 1830-х — 1840-х гг.: от мечтательной и расплывчатой религиозности к погружению в жизнь Православной Церкви; от увлечения мистицизмом масонского толка (масоном поэт никогда не был) до глубоко церковного сознания. В связи с этим по-другому звучат слова Тютчева о Жуковском:
Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змииной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.
И этою духовной чистотою он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю 3:
Он стройно жил, он стройно пел… (Тютчев, 2015, 376).
Список литературы Понятие "вера" в сознании В. А. Жуковского
- Жуковский В. А. Полное собрание сочинений: в 12 т. СПб.: Типография А. Ф. Маркса, 1902.
- Жуковский В. А. О поэте и современном его значении. Письмо к Н. В. Гоголю // Эстетика и критика / Ред. М. Ф. Овсянников. М.: Искусство, 1985.
- Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. / Сост. А. С. Янушкевич. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Тютчев Ф. М. Памяти В. А. Жуковского // Тютчев Ф. М. Полное собрание сочинений. М.: Директ-Медиа, 2015. литература
- Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». М.: INTRADA, 1999.
- Долгушин Д., свящ. В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма. М.: Наука, 2009.
- Константин (Зайцев), архим. Лекции по истории русской словесности, читанные в св. Троицкой семинарии. Джорданвиль: Типография прп. Иова Почаев- ского, 1968. Т. 2.
- Зеньковский В. В., прот. История русской философии. Изд. 2-е. Париж: YMCA-PRESS, 1989. Т. 1.
- Иезуитова Р. В. Жуковский и его время. Л.: Наука, 1989.
- История философии: От философии Древнего Востока до философии XXI века / Ред. Васильев В. В., Кротов А. А., Бугай Д. В. Изд. 3-е, перераб. М.: ЛЕНАНД, 2014.
- Феодосий (Желновачев), иером. Два стихотворения В. А. Жуковского о добродетели как рецепция нравственных идеалов русского (московского) масонства // Материалы IX международной студенческой научно-богословской конференции 10-11 мая 2017 г. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2017. C. 470-477.
- Секе Д. Место Жуковского в истории русской поэзии // Acta universitatis szegediensis de attila jozef nominatae. Slavistische mitteilungen. Szeged: Szegedi Nyomda, 1966.
- Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2006.
- Фридлендер Г. М. Спорные и очередные вопросы изучения Жуковского // Жуковский и русская культура. Л.: Наука, 1987.
- Хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия»: Русское внеакадемическое богословие XIX века. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016.
- Чистяков И. В. А. Жуковский и его религиозные воззрения // Вера и разум. 1916. № 11. C. 1323-1343.