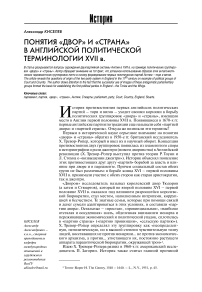Понятия "двор" и "страна" в английской политической терминологии XVII в
Автор: Киселев Александр Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются вопросы зарождения двухпартийной системы Англии в XVII в. на примере политических группировок «двора» и «страны». Автор обращает внимание на тот факт, что успешное использование образов этих антагонистических парламентских группировок легло в основу формирования первых политических партий Англии - тори и вигов.
Парламент, партия, "двор", "страна", англия, стюарты
Короткий адрес: https://sciup.org/170165575
IDR: 170165575
Текст научной статьи Понятия "двор" и "страна" в английской политической терминологии XVII в
И стория противостояния первых английских политических партий – тори и вигов – уходит своими корнями в борьбу политических группировок «двора» и «страны», имевшую место в Англии первой половины XVII в. Появившиеся в 1670-х гг. первые английские партии по традиции еще называли себя «партией двора» и «партией страны». Откуда же возникли эти термины?
Первым в исторической науке серьезное внимание на понятия «двора» и «страны» обратил в 1950-е гг. британский исследователь Х. Тревор-Ропер, который и ввел их в научный оборот. Концепция противостояния двух группировок появилась из знаменитого спора в историографии о роли джентри (нового дворянства) в Английской революции (Х. Тревор-Ропер выступил против теории Р. Тоуни и Л. Стоуна о «возвышении джентри»). Историк объяснял появление этих противостоящих друг другу «партий» борьбой за власть и влияние при дворе и в парламенте. Причем социальный состав обеих групп не был различным: в борьбе конца XVI – первой половины XVII в. принимали участие с обеих сторон как старая аристократия, так и джентри.
«Двором» исследователь называл королевский двор Тюдоров (а затем и Стюартов), который во второй половине XVI – первой половине XVII в. оказался под влиянием разросшейся королевской бюрократии, стал местом, наполненным интригами, коррупцией и бесчестием. Те знатные семьи, которые при помощи связей и денег сумели адаптироваться в этих условиях, и составили «партию двора». Остальные – «простая», «провинциальная», «наиболее отсталая и оскудевшая» знать, обделенная вниманием монарха и переживавшая экономический и политический упадок, сплотилась в «партию страны» («партию провинции», «сельскую партию»). Х. Тревор-Ропер определял эту группировку как «неопределенную, неполитическую, но в высшей степени чувствительную толпу людей, восстававших не против монархии… не против экономического архаизма, а против… угнетающего их, постоянно растущего аппарата паразитической бюрократии, окружавшей трон»1.
Идею Х. Тревора-Ропера развил в 1960-х гг. американский исследователь П. Загорин. Историк также считал главной причиной
Английской революции конфликт внутри элиты: «…в борьбе группировок «Двора» и «Страны» лежат ее [революции] истоки»1.
Концепция Х. Тревора-Ропера и П. Заго-рина вызвала множество откликов, в т.ч. и критических. Исследователи-марксисты критиковали эту теорию за отказ от классовой интерпретации борьбы, от «буржуазной» составляющей революции. «Очевидно, что концепция “Двора и Страны”, противопоставленная интерпретации “Великого Мятежа” как межклассового конфликта, открывала немарксистской историографии в одно и то же время две возможности: для пересмотра вигских стереотипов, с одной стороны, и для “противостояния” концепции буржуазной революции – с другой», – отмечал советский исследователь М.А. Барг2. Историки-ревизионисты отказались видеть в революционных событиях конфликт «двора» и «страны», утверждая, что «многие участники событий активно занимались политикой как при дворе, так и в провинции» и, следовательно, «“Двор и Страна” не могут стать идеологическим каркасом» политических событий 1640-х гг.3
Впрочем, некоторые исследователи все же взяли эту концепцию за основу своих теорий. В наше время идея противостояния группировок «двора» и «страны» имеет место как в зарубежной, так и в отечественной историографии4.
В английской политической терминологии раннего Нового времени термин country имел одновременно несколько значений. Во-первых, это традиционное обозначение сельской местности, графств, на которые разбита Англия. В XVI–XVIII вв. для этой страны было характерно четкое разделение территории на столичный округ (Лондон), где происходили все важные для государства события, и остальные провинции.
Именно в Лондоне бурлила жизнь. Там находился король и парламент, туда стекались все товары в стране, там можно было сделать карьеру. Если джентльмен не стремился в Лондон, поближе к королевскому двору, он считался обычным сельским джентльменом ( country gentleman ) – честным, добродушным, славным человеком, но малообразованным и неинтересным. Именно таким, например, был вождь Английской революции Оливер Кромвель, который провел большую часть жизни в провинциальном Хантингдоне, занимаясь своим поместьем. Тем не менее в XVII в. Англия оставалась страной мелких городков и многочисленных деревень и поместий. К середине столетия только 20–25% жителей страны проживали в городах.
Еще одно значение термина country было политическим – именно графства выдвигали своих представителей в парламент. Особую важность этот факт приобрел во второй половине XVI в. Благодаря королеве Елизавете I парламент стал политически значимым в стране, и депутаты все чаще говорили в своих выступлениях об ответственности перед графствами, которые направили их в Вестминстер. Так, в дебатах по вопросу о монополиях в 1601 г. один из депутатов высказывался «от имени города и графства [ country ], которым я служу»5. В 1621 г. депутат Эдвард Элфорд критиковал парламент за то, что «не дал нам субсидий и не сделал ничего хорошего для нашего графства»6.
Наконец, термин country означал страну, в которой жил каждый англичанин. Так, король Карл II, выступая в парламенте в 1662 г., говорил о депутатах, что они «проявляют заботу о чести и благополучии короля и страны [ country ]»7. Таким образом, в английском политическом мире представителями Country party («сельской партии», «партии cтраны») являлись сельские джентльмены-помещики, патриоты как своих маленьких графств, так и «старой доброй Англии» в целом.
В то же время провинциальные поме- щики часто подчеркивали свой образ жизни, противопоставляя его «двору». Это проявилось как в политической литературе, так и в художественной, и даже в частной переписке. Так, граф Саутхемптон, вернувшись в свои владения из Лондона, писал в 1623 г. своему другу, известному дипломату Т. Роу: «Я уже полностью сельский человек [countryman], и меня редко можно увидеть при дворе или в Лондоне… В такой жизни я нашел много покоя и удовлетворения»1. Известный писатель Н. Бретон опубликовал в 1618 г. трактат «Придворный и провинциал», в котором противопоставил два образа жизни – спокойную, мирную сельскую жизнь, основанную на религии и традициях, и бурную, нестабильную придворную суету, сопряженную с интригами и бесчестьем. Целью трактата было обличение жизни при королевском дворе, где положение любого придворного зависело исключительно от благосклонности короля: «В чем богатство придворного? В любви монарха. В чем счастье придворного? Бояться Господа, быть любимым королем, иметь возможность одалживать и никогда самому не занимать [денег]»2.
Королевский двор эпохи первых Стюартов представлялся местом падения нравов, особенно в активно распространявшейся в провинции дворянско-пуританской среде. Современные историки, основываясь на памфлетах того времени, описывают двор Якова I как «джунгли, кишащие гордыней, ревностью, притворством и предательством, где каждый стремился играть значительную роль, клевеща на остальных»3. Однако если двор первого монарха из рода Стюартов считался трамплином для восхождения многих молодых знатных людей, что вело к конкуренции между ними, то двор Карла I оказался закрытым для них. Второй Стюарт на английском престоле рискнул сломать старинные традиции доступности короля для подданных, ограничив возможность личных контактов с монархом. При его дворе оказалось трудно подать петицию, попасть в список «золотушных», которые раньше часто «излечивались» королем. Многие молодые амбициозные дворяне оказались отторгнуты «двором» и стали сплачиваться в парламенте, критикуя политику Карла I. При этом они формировали негативный образ «двора», который был все более востребован в обстановке надвигающейся революции4.
Противопоставление образов плохого «двора» и хорошей «страны/провин-ции» можно проследить в речах депутатов парламента на протяжении конца XVI – первой половины XVII в. Так, в 1587 г. парламентарий-пуританин Трокмортон высказался: «Удивительно, насколько развитыми кажутся простые сельские люди, и насколько отсталыми – мудрецы при дворе»5.
Наиболее заметным противостояние «двора» и «страны» в парламенте стало в 1620-е гг. Именно в это время термин country приобретает оппозиционное звучание. Быть «сельским» – значило состоять в оппозиции королю и его окружению, критиковать королевскую политику, с которой многие были не согласны. Так, во время дебатов в 1625 г. спикер палаты общин сразу же объявил, что считает себя «не придворным... а простым сельским джентльменом», подчеркнув тем самым свою политическую ориентацию. Сэр Джон Элиот, один из лидеров «сельской партии», писал, что дебаты «начал сельский джентльмен [ Gentleman of the Countrie ] неожиданно для “придворных” [ Courtiers ]». Говоря о количестве депутатов, Дж. Элиот отмечал, что «в Палате [общин] набиралось едва ли шестьдесят парламентариев, среди которых сельские [ country ] были не в большинстве»6. В 1629 г. депутат сэр Хэмфри Мэй заявил в палате общин: «Я желаю, чтобы мы не делились на “придворных” и “сельских джентльменов”». Однако термином «сельский» именовались не только коммонеры (члены палаты общин), но даже и оппозиционно настро енные пэры 7.
Была ли «партия страны» по-настоящему мощным политическим движением, толкнувшим Англию к революции? Мы знаем, что да. Именно «сельские джентльмены» составляли костяк оппозиции, заседавшей в Долгом парламенте. Но вот была ли «партия страны» партией? Нет, не была. У группировки «сельских джентльменов» ни в парламенте, ни за его пределами не было четкой организации, политической программы и ярких лидеров. Они действительно представляли собой только «неопределенную, неполитическую… толпу людей», как верно их назвал Х. Тревор-Ропер. В противном случае «партия страны» никогда не допустила бы «беспарламентского правления» Карла I (1629–1640 гг.). К тому же отсутствие единой политической программы и лидеров привело парламентскую оппозицию к расколу на различные группировки уже после начала гражданской войны в 1642 г. П. Загорин объяснял этот факт «переходным характером политических отношений с 1620-х гг.»1.
В годы Английской революции образы «двора» и «страны» не были востребованы. Сторонники короны стали называться «кавалерами», а «сельские джентльмены» – то «пресвитерианами», то «индепен-дентами», то «левеллерами». Гражданская война уничтожила благочестивый образ провинциальной дворянской оппозиции, поскольку та, в отличие от «двора», потеряла свое единство.
И лишь возвращение монархии в Англию в 1660 г. реанимировало и дореволюционные политические термины. Правление Карла II было сопряжено с целым рядом негативных для страны и общественного мнения событий: войны, чума 1665 г., «великий пожар» в Лондоне 1666 г., финансовые затруднения. Уже к 1667 г. в парламенте сложилась мощная оппозиция королю и его первому министру графу Кларендону. Именно тогда вновь возвращаются в политический лексикон образы «двора» и «страны». Однако уже к концу 1670-х гг. их постепенно вытесняют названия «тори» (сторонники усиления короля) и «виги» (сторонники усиления парламента), хотя историки в дальнейшем все равно будут проводить между ними аналогии.
Таким образом, можно констатировать, что политических партий «двора» и «страны» в предреволюционной Англии не существовало. Но были парламентские группировки, успешно использовавшие «сельский/провинциальный» образ как оппозиционный «двору». Этот успех подтверждается тем фактом, что спустя двадцать революционных лет политические деятели снова вернулись к прежней терминологии, которая надолго закрепилась в английской политической традиции Нового времени.