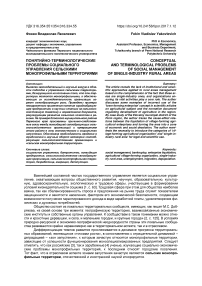Понятийно-терминологические проблемы социального управления сельскими монопрофильными территориями
Автор: Фокин Владислав Яковлевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Выявлен законодательный и научный вакуум в области подходов к управлению сельскими территориями, базирующихся на осознании того, что эти территории являются монопрофильными, а обеспечивающие их жизнедеятельность организации играют селообразующую роль. Приведены примеры некорректного применения понятия «градообразующее предприятие» в научных статьях на сельскохозяйственную тематику и нормативном документе, регулирующем развитие сельского хозяйства в регионе. На примере Еловского муниципального района Пермского края прослежены причинно-следственные связи между ликвидацией селообразующих сельскохозяйственных организаций и превращением этого района в зону экономического и социального запустения. Обоснована необходимость введения в юридический и научный оборот категорий «селообразующая сельскохозяйственная организация» и «сельская монопрофильная территория».
Социальное управление, банкротство, ликвидация предприятия, сельскохозяйственная селообразующая организация, сельская монопрофильная территория, безработица, миграция, депопуляция
Короткий адрес: https://sciup.org/14938771
IDR: 14938771 | УДК: 316.354:351/354:316.334.55
Текст научной статьи Понятийно-терминологические проблемы социального управления сельскими монопрофильными территориями
МОНОПРОФИЛЬНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
Важнейшей составной частью государственного управления является социальное управление, охватывающее вопросы общественного развития, научную, образовательную, культурную, здравоохранительную, экологическую и трудовую сферы, участвующие в формировании условий жизнедеятельности социума [1, с. 63]. Трудовая сфера при этом для общества наиболее важна, так как сбалансированность спроса и предложения на рынке труда служит показателем защищенности и занятости населения, фактором его экономической безопасности, создающим возможности получения гарантированного дохода в виде заработной платы, удовлетворения физических и духовных потребностей.
Общество состоит из локальных территориальных сообществ, имеющих, как пишет М.С. Доб-рякова, «в своей основе три момента: географическую территорию, взаимосвязанные экономические институты и собственные органы управления. К сообществам в таком понимании можно отнести и крохотные деревушки, и села, и маленькие городки, и крупные города» [2, с. 125]. В условиях природно-ресурсной и экономико-географической неоднородности страны эти локальные сообщества развиваются крайне неравномерно как в территориальном аспекте, так и в отраслевом.
Дифференциация темпов развития прослеживается в динамике прогресса территориальных образований, являющихся «точками роста», в сопоставлении с отрицательной динамикой – деградацией – «зон запустения», к которым зачастую относятся монопрофильные территории, зависящие от успешности функционирования моноспециализированных предприятий. Следует отметить, что как российские [3], так и зарубежные [4] ученые, изучающие социально-экономические проблемы монопрофильных территорий, к последним относят городские поселения. Тот факт, что в отраслевом аспекте зонами запустения зачастую являются сельские монопро-фильные территории , отечественной и иностранной наукой игнорируется.
Сельские зоны запустения – это, как пишет В.Я. Узун, «территории, на которых более 50 % сельскохозяйственных угодий не используются… где сельскохозяйственное производство не ведется вообще или имеет очаговый характер, т. е. ведется в анклавах, окруженных территориями, где никто не пашет, не сеет, не выращивает скот и птицу» [5, с. 33]. Формирование сельских территорий, превращающихся в зоны экономического и, как следствие, социального запустения, связано с банкротством и ликвидацией сельскохозяйственных организаций – процессами, продолжающимися на протяжении всего периода рыночной экономики, в том числе последние 10 лет.
Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., в Российской Федерации за 10-летний период, прошедший с момента предыдущей переписи, зафиксировано существенное снижение количества сельскохозяйственных организаций. С 2006 по 2016 г. их число уменьшилось с 59,2 до 36,4 тыс. ед. – на 22,8 тыс. ед., или 38,5 % по отношению к показателям базового периода. Количество крупных и средних предприятий снижалось еще более быстрыми темпами. Если в 2006 г. в стране их насчитывалось 27,8 тыс., то к моменту переписи осталось всего 15,2 тыс., т. е. было ликвидировано 12,6 тыс., или 45,3 % от суммарного числа крупных и средних предприятий, функционировавших всего 10 лет назад [6, с. 7–9]. С учетом того что средняя площадь земельных угодий крупных и средних сельхозорганизаций в стране за межпереписной период увеличилась всего на 2,0 %, можно утверждать, что большинство из прекративших деятельность предприятий были именно ликвидированы и перестали функционировать в качестве производителей агропродукции, а не объединены с другими организациями.
Формирование зон запустения, связанное с прекращением деятельности крупных сельскохозяйственных организаций, обусловлено исторически сложившейся монопрофильностью сельских территориальных образований. Причиной этого служит то, что к началу рыночных трансформаций угодья большей части сельских советов совпадали с земельными площадями колхозов и совхозов, осуществлявших узкоспециализированную сельхоздеятельность в границах этих советов и игравших для них селообразующую роль. Об этом говорит тот факт, что согласно данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. в РСФСР в 117 033 сельских населенных пунктах из 152 922 (76,5 % от базового значения) основная часть населения была занята в сельском хозяйстве.
Несмотря на столь явные признаки монопрофильности сельских территориальных образований, в российском праве отсутствует , а в научном обороте – крайне редко употребляется понятие «сельскохозяйственная селообразующая организация». Изучение научных трудов, охватывающих проблемы функционирования рассматриваемых образований, позволило выявить всего три случая попыток обоснования отечественными учеными необходимости введения в российское законодательство указанной категории. Эта необходимость объяснялась схожестью условий функционирования монопрофильных градообразующих предприятий и крупных сельскохозяйственных организаций. Последние являлись главными работодателями для жителей сельских поселений, выполняя селообразующую роль с высоким риском критичных последствий их ликвидации для населения [7].
В научных работах существуют единичные примеры использования понятия «селообразующее (-ая)» в разных контекстах. Например, А.А. Лежебоков обосновывает мероприятия по повышению эффективности социальной политики сельских муниципальных образований Ставропольского края: «Села, как монопрофильные города, имеют обычно одно селообразующее предприятие, обеспечивающее жизнеспособность местного сообщества» [8, с. 79]. По мнению Л.В. Гришаевой, селообразующая роль большинства сельскохозяйственных предприятий способствует тому, что они несут дополнительные издержки, непосредственно не связанные с производством сельхозпродукции, а направленные на обеспечение жизнедеятельности сельских территорий [9, с. 30]. Во всем массиве российской научной литературы, представленной в научной электронной библиотеке elibrary.ru, раскрывающей вопросы экономики и социологии села, понятие «селообразующее предприятие (организация)» встречается не более 10 раз, а термин «сельская мо-нопрофильная территория», за исключением наших работ [10], вообще отсутствует .
Мы считаем, что отсутствие в юридическом обороте категории «селообразующее предприятие» влечет за собой некорректное применение понятия «градообразующее предприятие» в статьях, объектами исследования которых являются сельскохозяйственные предприятия, а также в программных документах. Например, в результате изучения адаптационных социальноэкономических практик сельских локальных сообществ в условиях реформ на селе В.С. Шмаков и Ю.С. Сердюкова оправданно пришли к выводу, что вследствие ликвидации крупных сельхозор-ганизаций для сельского населения характерен деструктивный тип адаптации. По мнению авторов, данный тип адаптации отличается тем, что на селе прогрессирует распад социальных связей, наблюдается ускорение миграционных процессов. В итоге это заканчивается гибелью локального сообщества «в условиях ликвидации коллективного хозяйства и исчезновения градообразующего предприятия» [11, с. 105]. Чтение такого текста вызывает семантический диссонанс между смысловым значением понятия «градообразующее предприятие» и контекстом статьи, в которой объектом рассмотрения выступает сельский социум.
Следующий пример наглядно показывает несоответствие применения термина «градообразующее предприятие» по отношению к сельскохозяйственной организации в программном документе, регламентирующем действия по управлению сельским хозяйством в регионе. В Пермском крае таким актом, обосновывающим мероприятия, направленные на улучшение состояния агропромышленного комплекса региона, в том числе его социальной составляющей, выступает «Дорожная карта развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае до 2020 г.». В разделе, посвященном развитию мясного животноводства, ставится задача «технологической модернизации существующего свинокомплекса и реализации новых инвестиционных проектов на территории Майского и Чайковского сельских поселений, для которых ОАО "Пермский свинокомплекс" является градообразующим предприятием» [12, с. 7]. В процитированном фрагменте термин «градообразующее предприятие» применяется в юридически выверенном документе по отношению к двум сельским поселениям, на территории первого из которых насчитывается 17 сельских населенных пунктов, второго – 14 и, что естественно для сельского поселения, нет ни одного города.
Именно отсутствие в юридическом и научном обороте категорий «селообразующая организация», «сельская монопрофильная территория» приводит к появлению приведенных в качестве примеров научных статей и нормативных документов, характеризующихся смысловым диссонансом. Это опосредованно обусловливает уменьшение эффективности социального управления сельскими территориальными образованиями. Отсутствие в российском законодательстве норм права, смягчающих условия банкротства селообразующих предприятий по модели градообразующих предприятий, снижает эффективность управления сельскими монопрофильными территориями. Это является одной из причин массового банкротства сельхозорганизаций, приводящего к деградации экономической и социальной сферы сельских поселений, росту безработицы и массовому исходу жителей как из отдельных поселений, так и целиком из сельских муниципальных районов.
В качестве примера рассмотрим процессы влияния ликвидации селообразующих предприятий на динамику депопуляционных процессов и снижение результативности сельскохозяйственной сферы в Еловском муниципальном районе Пермского края (таблица 1). Район расположен на юго-западе края, относящегося к Нечерноземной зоне. В современных границах существует с ноября 1965 г. Согласно архивным данным к моменту начала рыночных реформ в состав района входили 10 сельских советов. В границах каждого из них функционировал один крупный колхоз, за исключением Брюховского совета, территория которого совпадала с площадью земельных угодий двух сельскохозяйственных организаций – колхоза им. Фурманова и колхоза «Память Злыгостева».
Таблица 1 – Динамика ликвидации сельскохозяйственных организаций на территории Еловского района Пермского края [13]
|
Название предприятия/ территориальная принадлежность |
Период деятельности |
|
|
Год образования |
Год фактического прекращения деятельности |
|
|
Колхоз им. Фурманова/Брюховский сельский совет |
1949 |
1999 |
|
Колхоз «Заветы Ленина»/Нижнебардинский сельский совет |
1950 |
2001 |
|
Колхоз «Рассвет»/Осиновский сельский совет |
1961 |
2003 |
|
Колхоз «Труженик»/Калиновский сельский совет |
1936 |
2004 |
|
Колхоз им. Кирова/Куштомаковский сельский совет |
1935 |
2004 |
|
Колхоз «За мир»/Плишкаринский сельский совет |
1939 |
2004 |
|
Колхоз «Россия»/Малоусинский сельский совет |
1934 |
2006 |
|
Колхоз «Память Злыгостева»/Брюховский сельский совет |
1956 |
2006 |
|
Колхоз «Новый путь»/Еловский сельский совет |
1951 |
2008 |
|
Колхоз им. Калинина/Крюковский сельский совет |
1940 |
2008 |
|
Колхоз им. Тельмана/Дубровский сельский совет |
1945 |
2014 |
Примечание. Информация для этой и следующей таблиц собрана и сгруппирована на основе изучения архивных данных.
За годы рыночных реформ все эти 11 крупных сельскохозяйственных предприятий, за которыми в 1989 г. в общей сложности было закреплено около 140 тыс. га земли и которые в условиях плановой экономики десятилетиями успешно функционировали в неизменных территориальных границах, постепенно снизили объемы выпуска продукции, затем были полностью ликвидированы в качестве субъектов хозяйственной деятельности. Согласно данным, размещенным на официальном сайте Еловского муниципального района, в 2015 г. на территории района функционировали 4 сельскохозяйственных организации в виде малых предприятий. Суммарная численность их работников составляла всего 90 человек. При этом все организации были убыточными, что говорит о перспективе полного прекращения производства товарной сельскохозяйственной продукции в районе [14].
Снижение объемов производства, ухудшение финансового состояния и неплатежеспособность колхозов привели к закрытию районных специализированных агросервисных предприятий, базировавшихся на территории районного центра – села Елово. Эти организации также многие десятилетия занимались обслуживанием колхозов: строительством жилья и сельскохозяйственных зданий и сооружений; диагностикой, ремонтом и техническим обслуживанием тракторов, автомобилей и техники; выполнением агрохимических работ; закупкой, хранением и переработкой сельхозпродукции (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика ликвидации агросервисных организаций, функционировавших на территории с. Елово Пермского края
|
Название предприятия |
Период деятельности |
|
|
Год образования |
Год фактического прекращения деятельности |
|
|
Еловский «Агропромстрой» |
1959 |
2005 |
|
Еловская «Агропромхимия» |
1978 |
2005 |
|
Еловское районное объединение «Сельхозтехника» |
1932 |
1998 |
|
Еловское хлебоприемное предприятие |
1936 |
2002 |
|
Маслосыркомбинат «Еловский» |
1953 |
2012 |
Прекращение деятельности сельскохозяйственных и агросервисных организаций Елов-ского района сопровождалось массовой безработицей, пик которой пришелся на 2009 г. В этом году уровень зарегистрированной безработицы в Еловском районе достигал 10,4 %, а в Крюковском сельском поселении по причине ликвидации селообразующего предприятия – колхоза им. Калинина – 22,7 %.
Территориальная изолированность населения района от альтернативных мест работы вынудила многие семьи вместе с детьми выехать в близлежащие города Пермского края и другие регионы страны. Согласно статистическим данным [15], за период с 1 января 2000 г. по 1 января 2014 г. количество населения Еловского района снизилось с 14 535 до 9 787 человек – на 4 748 (34,4 %). Среднесписочная численность работников, занятых в организациях района, за это время сократилась с 4 501 до 1 531 человека – на 66,0 %. Массовая миграция трудоспособного населения привела к тому, что число пенсионеров в 2014 г. достигло 383, приходящихся на 1 000 человек, проживавших в районе. Это в 1,4 раза превышало среднекраевые показатели. Численность работающего населения, приходящегося на одного пенсионера, к 2014 г. уменьшилась до 42,0 %, что в 2,6 раза ниже общекраевого уровня (108,0 % работающих по отношению к пенсионерам в среднем по Пермскому краю).
Индексы производства продукции в результате ликвидации сельскохозяйственных организаций значительно снизились. В 2014 г. по отношению к данным 2000 г. они по всем категориям хозяйств, включая фермерские хозяйства и хозяйства населения, составляли: молоко – 0,42; мясо – 0,3; зерно – 0,22. С учетом выявленных тенденций деградации экономической сферы и процессов депопуляции Еловского района оправдан дальнейший негативный прогноз формирования этой зоны запустения, в которой по прошествии некоторого времени полностью прекратится сельскохозяйственная деятельность.
Таким образом, в результате изучения российского права и научных работ установлен практически полный законодательный и научный вакуум в области подходов к управлению сельскими территориями, базирующихся на осознании того, что они являются монопрофильными, а обеспечивающие их жизнедеятельность организации играют селообразующую роль. Анализ статистических данных, характеризующих динамику социально-экономической деградации Елов-ского муниципального района Пермского края, показал влияние ликвидации сельхозпредприятий на экономическую и социальную деградацию района, выражающуюся в многократном снижении результативности производства и формировании необратимых депопуляционных процессов.
На основе приведенных аргументов считаем целесообразным и полезным ввести в юридический и научный оборот категории «сельская монопрофильная территория» и «селообразующая сельскохозяйственная организация». Это позволит исключить создание нормативно-правовых документов, в которых в контексте управления сельскими территориальными образованиями применяется термин «градообразующая организация». Изменение законодательства в направлении предотвращения банкротств селообразующих предприятий даст возможность повысить результативность управления сельскими поселениями и районами. В них сохранятся условия, необходимые для жизнедеятельности локальных территориальных сообществ, что обусловит снижение темпов социальной деградации этих территорий по типу Еловского муниципального района Пермского края.
Ссылки и примечания:
-
1. Заварзина Г.А. Особенности развития концепта «социальное управление» в концептосфере нового российского государственного управления // Гуманитарный вектор. Серия: Филология, востоковедение. 2016. Т. 11, № 3. С. 62–63.
-
2. Добрякова М.С. Исследования локальных сообществ в социологической традиции // Социологические исследования. 1999. № 7. С. 125–133.
-
3. Гусев В.В. Российские моногорода: проекты будущего или архаичное наследие прошлого? // Власть. 2012. № 10. С. 23–27 ; Пьянкова С.Г. Теория и методология системного социально-экономического развития монопрофильных территорий на основе институционального обновления : дис.... д-ра экон. наук. Екатеринбург, 1915. 479 с. ; и др.
-
4. Dale B. An institutional approach to local restructuring – the case of four Norwegian mining towns // European Urban and Regional Studies. 2002. Vol. 9, no. 1. P. 5–20 ; Mawhiney A.-M., Pitblado J. Boom town blues: Elliot Lake, collapse and revival in a single-industry community. Toronto, 1999. 346 р. ; и др.
-
5. Узун В.Я. Сельское хозяйство России: точки роста и зоны запустения // АПК: регионы России. 2012. № 1. С. 30–40.
-
6. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г. Предварительные итоги [Электронный ресурс] : статистиче
ский бюллетень. М., 2016. 70 с. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP-2016.pdf (дата обращения: 16.12.2016).
-
7. Лысенко Л.А. Проблемы несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательства сферы сельскохозяйственного производства по законодательству Российской Федерации : автореф. дис.... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2003. 26 с. ; Туркина А.А. Институт несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных товаропроизводителей в российском праве : автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2003. 26 с. ; Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) особых категорий субъектов конкурсного права: теоретические и практические проблемы правового регулирования. М., 2007. 175 с.
-
8. Лежебоков А.А. Проблемы реализации социальной политики местного самоуправления // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2008. № 12. С. 72–80.
-
9. Гришаева Л.В. Сельскохозяйственные рынки : учебное пособие. Омск, 2003. 217 с.
-
10. Фокин В.Я. Ликвидация селообразующих предприятий как фактор депрессивности сельских монопрофильных территорий Пермского края // Регион: экономика и социология. 2015. № 4. С. 108–129 ; и др.
-
11. Шмаков В.С., Сердюкова Ю.С. Методологические проблемы моделирования развития сельского социума // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2012. Т. 10, № 4. С. 101–107.
-
12. Дорожная карта развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае до 2020 г. / под ред. И.П. Огородова. Пермь, 2014. 56 с.
-
13. Здесь и далее названия организаций приводятся без указания их последующих организационно-правовых форм, менявшихся в процессе реорганизаций при изменении российского законодательства.
-
14. Экономика [Электронный ресурс] // Официальный сайт Еловского муниципального района. URL:
-
15. Статистический ежегодник Пермского края. 2015 : статистический сборник. Пермь, 2015. 413 с.
(дата обращения: 16.12.2016).
Список литературы Понятийно-терминологические проблемы социального управления сельскими монопрофильными территориями
- Заварзина Г.А. Особенности развития концепта «социальное управление» в концептосфере нового российского государственного управления//Гуманитарный вектор. Серия: Филология, востоковедение. 2016. Т. 11, № 3. С. 62-63.
- Добрякова М.С. Исследования локальных сообществ в социологической традиции//Социологические исследования. 1999. № 7. С. 125-133.
- Гусев В.В. Российские моногорода: проекты будущего или архаичное наследие прошлого?//Власть. 2012. № 10. С. 23-27.
- Пьянкова С.Г. Теория и методология системного социально-экономического развития монопрофильных территорий на основе институционального обновления: дис.. д-ра экон. наук. Екатеринбург, 1915. 479 с.
- Dale B. An institutional approach to local restructuring -the case of four Norwegian mining towns//European Urban and Regional Studies. 2002. Vol. 9, no. 1. P. 5-20.
- Mawhiney A.-M., Pitblado J. Boom town blues: Elliot Lake, collapse and revival in a single-industry community. Toronto, 1999. 346 р.
- Узун В.Я. Сельское хозяйство России: точки роста и зоны запустения//АПК: регионы России. 2012. № 1. С. 30-40.
- Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г. Предварительные итоги : статистический бюллетень. М., 2016. 70 с. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP-2016.pdf (дата обращения: 16.12.2016).
- Лысенко Л.А. Проблемы несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательства сферы сельскохозяйственного производства по законодательству Российской Федерации: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2003. 26 с.
- Туркина А.А. Институт несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных товаропроизводителей в российском праве: автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2003. 26 с.
- Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) особых категорий субъектов конкурсного права: теоретические и практические проблемы правового регулирования. М., 2007. 175 с.
- Лежебоков А.А. Проблемы реализации социальной политики местного самоуправления//Научные проблемы гуманитарных исследований. 2008. № 12. С. 72-80.
- Гришаева Л.В. Сельскохозяйственные рынки: учебное пособие. Омск, 2003. 217 с.
- Фокин В.Я. Ликвидация селообразующих предприятий как фактор депрессивности сельских монопрофильных территорий Пермского края//Регион: экономика и социология. 2015. № 4. С. 108-129.
- Шмаков В.С., Сердюкова Ю.С. Методологические проблемы моделирования развития сельского социума//Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2012. Т. 10, № 4. С. 101-107.
- Дорожная карта развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае до 2020 г./под ред. И.П. Огородова. Пермь, 2014. 56 с.
- Экономика //Официальный сайт Еловского муниципального района. URL: http://adminelovo.ru/index.php/ekonomika.html (дата обращения: 16.12.2016).
- Статистический ежегодник Пермского края. 2015: статистический сборник. Пермь, 2015. 413 с.