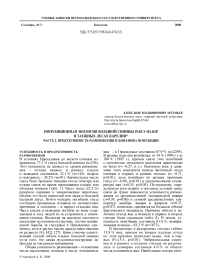Популяционная экология большой синицы Parus major в таежных лесах Карелии. Часть 2. Продуктивность размножения и динамика популяции
Автор: Артемьев Александр Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Биология
Статья в выпуске: 3 (94), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14749433
IDR: 14749433 | УДК: 575.857:598.841(470.22)
Текст статьи Популяционная экология большой синицы Parus major в таежных лесах Карелии. Часть 2. Продуктивность размножения и динамика популяции
ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ PARUS MAJOR
В ТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ КАРЕЛИИ*
ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ
УСПЕШНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ
В условиях Приладожья до вылета птенцов сохранилось 77.1 % гнезд большой синицы (n=236). Этот показатель не зависел от сроков размножения – потери первых и ранних кладок и выводков составляли 22.1 % (n=145), вторых и повторных – 24.2% (n=91). Значительное число гнезд было брошено птицами после осмотра или отлова самок во время насиживания кладки или обогрева птенцов (табл. 7). Часть гнезд (22.2 %) разорили хищники и хищничающие животные, обычно это были горностай или ласка и большой пестрый дятел. Почти четверть погибших гнезд составили брошенные птицами по неизвестным причинам, в основном – в период откладки яиц. Часть кладок и выводков погибла по вине отдыхающих в лесу людей из-за устроенных у синич-ников стоянок. Несмотря на высокую плотность населения мухоловки-пеструшки, случаи межвидовой борьбы за гнездовья в Приладожье единичны, хотя в других частях ареала такое явление не редкость [4], [42], [27]. Нами отмечен единственный случай гибели кладки большой синицы из-за того, что самка мухоловки-пеструшки забросала ее гнездовым материалом.
Общая успешность размножения – отношение числа вылетевших птенцов к числу отложенных яиц – в Приладожье составила 67.9 % (n=2295). В разные годы она колебалась от 34 % (1994 г.) до 100 % (1995 г.), причем связи этих колебаний с плотностью гнездового населения практически не было (r= –0.27, n. s.). Основную роль в динамике этого показателя играли частичный отход птенцов в первых и ранних гнездах (r= –0.71, p<0.01), доля погибших по разным причинам гнезд (r= –0.68, p<0.01) и среднемесячная температура мая (r=0.43, p<0.05). По-видимому, определенную роль играют и погодные условия зимы: связи на грани значимости успешности размножения со среднемесячной температурой января (r=0.39, p=0.06) и суммой среднемесячных температур декабря, января и февраля (r=0.37, p=0.07), возможно, проявятся на большем объеме фактического материала. Причины гибели и величина отхода яиц и птенцов в первых и вторых гнездах были сходными (табл. 8). В целом, успешность инкубации составила 81.6 %, выкармливания птенцов – 83.2 % (n=1873).
В брошенных и разоренных гнездах гибнет 13.8 % яиц, причем во вторых кладках отход по этой причине несколько выше, чем в первых (F=15.3, p<0.01). Эмбриональная смертность в ранних и поздних гнездах не различалась и суммарно составила 4.6 % от общего числа отложенных яиц. Наибольшие потери птен-
Таблица 7
|
Причины гибели гнезд большой синицы в 1979–2004 годах |
||||||
|
Причина гибели |
X 3 co & с о ч S о С |
S § S |
3 & о со S С |
S и со О С S |
||
|
о |
со о о со со |
со 3 со |
ю сЗ |
СО |
||
|
Брошено после отлова самки |
6 |
4 |
5 |
2 |
17 |
31.48 |
|
Брошено после осмотра Разорено |
4 |
4 |
7.41 |
|||
|
человеком |
1 |
3 |
4 |
7.41 |
||
|
горностаем, лаской |
2 |
3 |
5 |
9.26 |
||
|
куницей, норкой |
1 |
1 |
1.85 |
|||
|
серой вороной |
1 |
1 |
1.85 |
|||
|
большим пестрым дятлом |
2 |
1 |
3 |
5.56 |
||
|
ястребом-перепелятником |
1 |
1 |
1.85 |
|||
|
хищник не определен |
1 |
1 |
1.85 |
|||
|
Брошено |
||||||
|
по неизвестной причине |
7 |
2 |
4 |
1 |
14 |
25.93 |
|
из-за мухоловки-пеструшки |
1 |
1 |
1.85 |
|||
|
из-за муравьев |
1 |
1 |
1.85 |
|||
|
Кладка с неоплодотв. яйцами |
1 |
1 |
1.85 |
|||
|
Всего |
23 |
9 |
18 |
4 |
54 |
100 |
В успешных гнездах (без учета разоренных и брошенных кладок и выводков) эмбриональная смертность составила 4.9 % от числа яиц, сохранившихся до вылупления (n=2157), а частичный отход птенцов – 10.8 % от числа вылупившихся (n=1748). Эти показатели не зависели от возрастного состава пар, были сходными в разных биотопах и практически не отличались при разных сроках и циклах гнездования (табл. 9). Значимые различия выявлены только при первом цикле размножения: в лесах с преобладанием ели частичный отход яиц и птенцов был ниже, чем в чер-ноольшаниках (F=4.5, p<0.05) и сосново-лиственных лесах (F=5.3, p<0.05).
Успешность размножения большой синицы зависит от множества факторов и в пределах Европы колеблется от 42 до 86 % [31], [37], [1], [41], [12], [11], [17], [14], [24], [6] и др. Наиболее низка она в маргинальных местообитаниях – бедных по составу растительности городских парковых насаждениях и садах, или в лесах се-
Таблица 9
Частичный отход яиц и птенцов в гнездах большой синицы в разных биотопах
Приладожья в 1979–2004 годах
Продуктивность кладок разной величины при первом цикле размножения сходная, ее значимое снижение наблюдается только в кладках, содержащих более 12 яиц (табл. 10), во вторых и повторных гнездах более высок выход птенцов из небольших кладок, но значимые различия выявлены только между кладками из 7 и 12 яиц (F=4.7, p<0.05). Считается, что у синиц наиболее продуктивны кладки чуть больше средней для данной популяции величины [37], но эта тенденция не всегда отчетливо проявляется в природе, что, возможно, связано с колебаниями многих факторов, влияющих на этот параметр [31, наши данные].
Общая продуктивность размножения популяции за весь период исследований составила 10.1 слетка на пару птиц за сезон, с колебаниями по годам от 3.5 ( 1994 г.) до 15.1 слетка (1981 г.). Она была прямо связана с частотой бициклии (r=0.67, p<0.01) и успешностью гнездования (r=0.62, p<0.01). Кроме того, зависела от особенностей предшествующей зимы и весны: от суммы среднемесячных температур декабря, января и февраля (r=0.48, p<0.05), от среднемесячной температуры февраля (r=0.43, p<0.05), а также от среднемесячной температуры мая (r=0.41, p<0.05). Сроки начала гнездования и плотность популяции на этот показатель влияния не оказывали (r=–0.18 и r=–0.02, n. s.). Многофакторный регрессионный анализ перечисленных выше параметров позволил получить уравнение y=0.08+067x 1 +0.62x 2 , с высокой точностью описывающее многолетнюю динамику продуктивности популяции (R2=82.4). При расчетах в качестве функции и переменных использованы нормированные отклонения анализируемых признаков, y – число слетков на гнездящуюся пару, x1 – отношение числа вылетевших из гнезд птенцов к числу отложенных яиц, x 2 – частота вторых кладок. Дисперсионный анализ этого уравнения показал, что наиболее значимый
Таблица 10
Обследуемая популяция демонстрирует типичный пример r-стратегии размножения [13], оптимальный для существования в неустойчивых условиях среды обитания [9]. Она характеризуется высоким уровнем репродукции, по-видимому, близким к видовому максимуму. Судя по приведенным в литературе данным, во многих частях ареала продуктивность размножения меньше, чем в Приладожье, и только в популяциях о. Влиеланд (Голландия) и Приокско-Террасного заповедника (Россия) она составляет 11 и 11.2 слетка на пару гнездящихся птиц [32], [21], [24], [6].
В Приладожье в район рождения возвращается малое число птиц, поэтому точная оценка роли первых и вторых выводков в поддержании численности гнездового населения по числу рекрутов невозможна. Из помеченных в 1979– 2003 годах 1511 птенцов в последующие годы здесь загнездилось всего 6, или 0.4 %, и это были особи из средних по срокам и величине кладки первых и вторых гнезд (рис. 4).
СМЕРТНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И МОЛОДЫХ ПТИЦ
Оценка смертности взрослых птиц по соотношению первогодков и особей старших возрастных групп в составе гнездового населения показывает, что ее величина в среднем составляет 51.6 % у самцов и 75.6 % у самок. Расчет выживаемости другими методами, основанными на повторной регистрации окольцованных птиц [7], [12], затруднен, так как в район мечения на гнездование возвращается лишь незначительное число выживших особей. Из 127 помеченных у гнезд в 1979–2003 годах самцов в последующие годы обнаружено всего 14 (11 %), а из 132 самок – 8 (6,1 %). С учетом полноты контроля птиц в искусственных гнездовьях возврат самцов составил 13.2 %, самок – 7 %. Низкий уровень возврата больших синиц, по-видимому, характерен и для других областей средней полосы России [5].
Смертно сть молодых птиц от вылета из гнезд до начала следующего сезона размножения, рассчитанная по формуле В. А. Паевс-кого [12] для относительно стабильной популяции, составила 87.3 %.
В разных точках ареала смертность взрослых птиц колеблется в пределах 40–60 %, причем у самцов она обычно на 3–8 % ниже, чем у самок [11], [20], [23] и др. В северных популяциях выживаемость взрослых птиц остается довольно высокой: в окрестностях Оулу на широте 65° до следующего сезона размножения доживает 52 % самцов и 48 % самок [40]. Необычно высокий показатель уровня смертности самок, полученный в результате наших расчетов, по-видимому, связан с методической погрешностью. Исходное допущение, что все замещенные первогодками взрослые особи погибли, не учитывает эмиграцию птиц. Таежные леса, удаленные от населенных пунктов, представляют для большой синицы субоптимальные или «буферные», по терминологии Клюйвера и Тинбергена [33], местообитания, что в первую очередь связано с малой пригодностью таких стаций для птиц в зимний период [10]. Преобладание здесь первогодков среди самок, вероятно, связано со сменой ими биотопов в течение жизни. Самцы отличаются более устойчивой связью с территорией, и после первого размножения большинство выживших, по-видимому, возвращается в район прежнего гнездования. Можно предположить, что самки, в меньшей степени связанные с территорией, с повышением социального статуса на втором году жизни стремятся остаться на размножение в оптимальных стациях – в окрестностях населенных пунктов поблизости от мест зимовки. Поэтому многие из них не возвращаются на места первого гнездования в лесные массивы, где их место занимают первогодки. Косвенным подтверждением этому служит состав городских популяций большой синицы в северо-восточной Европе: в пригородах Ленинграда первогодки составляли около 50 % гнездового населения, а в Тарту и окрестностях Хельсинки – 44–45 % гнездящихся [15], [29], [28].
Завышенная оценка смертности самок обследуемой популяции ведет, в свою очередь, к завышению выживаемости сеголетков. С учетом изложенного выше, смертность самок в Прила-дожье, вероятно, составляет не более 55–60 %, а молодых птиц в течение первого года жизни – около 89 %. Выживаемость первогодков у боль- шой синицы в пределах Европы колеблется от 11 до 31 %, обычно она составляет 15–20 % [31], [20], [40], [19] и др. Смертность молодых птиц Приладожья приближается к наиболее высоким значениям, полученным только в 2 точках ареала – в плотно населенной популяции о. Влиеланд в Голландии и в Окском заповеднике в средней полосе России [32], [11]. Возможно, это связано с нестабильными и суровыми условиями зимовки в исследуемом регионе и с увеличением дальности кочевок и миграций птиц.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ В ЛЕСАХ ПРИЛАДОЖЬЯ
Как показывают приведенные в предыдущих разделах данные, в Приладожье плотность гнездового населения не оказывала существенного влияния на динамику основных параметров репродукции большой синицы. В ряде популяций Западной Европы, в условиях высокой численности птиц, плотность-зависимые механизмы регуляции воспроизводства проявляются более отчетливо, воздействуя на величину кладки, частоту вторых выводков, успешность и итоговую продуктивность размножения [7], [37], [31], [42], [34], [30]. В обследуемой популяции подобного не происходит, очевиднo, в связи с тем, что здесь плотность населения не достигает критической величины, при которой начинается действие этих механизмов. Как показал Клюйвер [31], уровень репродукции у большой синицы снижается после того, как плотность гнездового населения превысит 4 пары на 10 га, а в районе исследований даже в оптимальных биотопах в годы подъема численности она была менее 2.5 пары/10 га. На контролируемой территории птицы гнездились на значительном удалении друг от друга и часто ограничивались лишь акустическими контактами, а иногда и вовсе «не знали» о существовании соседей. Если в Англии в лесу у Оксфорда среднее расстояние между гнездами соседних пар составляло 40–50 м [35], то в Приладожье эта дистанция колебалась от 60 до 2800 м и в среднем составляла около 730±50 м (n=97). В отдельные годы на линиях гнездовий протяженностью 3–6 км обитали лишь одиночные пары, и, хотя в ближайших окрестностях мест развески синичников часть птиц гнездилась в естественных дуплах, интервалы между их гнездами были значительными. В условиях такой низкой численности репродуктивная стратегия популяции была направлена на максимальный уровень воспроизводства. Итоговая продуктивность размножения практически не зависела от состава и плотности гнездового населения и колебалась в основном под действием внешних факторов, определяющих успешность гнездования и частоту вторых кладок. Существенное влияние на нее оказывала погода зимы и ранней весны, по-видимому, действующая на птиц опосредованно, через динамику кормовой базы.
Число гнездящихся пар и основные показатели текущего сезона размножения практически не отражались на изменениях плотности гнездового населения в последующем сезоне (табл. 11). Основную роль в динамике численности играли выживаемость птиц во внегнездовой период и интенсивность иммиграции. Ежегодно состав гнездового населения почти полностью обновлялся за счет птиц-иммигрантов. Резиденты и особи местного происхождения составляли незначительную часть популяции (менее 11 %) и практически не влияли на ее динамику. Это подтвердилось и простыми формальными расчетами. Динамика плотности гнездового населения контролируемой территории (y) удовлетворительно описывалась уравнением линейной регрессии y=0.02+0.82x 1 +0.19x 2 , (R2=90.3), где x1 – плотность птиц-иммигрантов, а x2 – резидентов и особей местного происхождения (в качестве функции и переменных использованы нормированные отклонения признаков). Дисперсионный анализ этого уравнения показал, что основной вклад в дисперсию функции вносит фактор x 1 – 88.1 %, в то время как фактор x 2 определяет ее всего на 2.1 %.
На плотность гнездового населения определенное влияние оказывала и погода предшествующей зимы: умеренная связь этого параметра со среднемесячной температурой декабря была на грани значимости (r=0.39, p=0.06). В районе работ, в лесах, где были развешены гнездовья, большие синицы обычно не зимовали, но в 1980–1992 годах здесь с декабря по март действовали 2–3 зерновых прикормки, и часть птиц оставалась около них на зиму. Поэтому мы провели раздельный анализ влияния зимних температур на динамику популяции за этот период и за 1993–2003 годы, когда таких прикормок не было. Плотность гнездового населения в 1980– 1992 годах была прямо связана со среднемесячной температурой декабря (r=0.67, p<0.05) и, вероятно, с температурой января (r=0.46, p=0.11). В 1993–2003 годах такой зависимости не было (r=0.15 и r=–0.04, n. s.), очевидно, в связи с тем, что большая часть птиц откочевывала на территории с другим температурным режимом.
Известно, что на выживаемость влияют не только погодные и кормовые условия, но и осенняя численность птиц: зимние холода сильнее сказываются на динамике плотных популяций [31]. В районе исследований осенняя плотность населения (сумма вылетевших из гнезд молодых и гнездившихся взрослых птиц) в среднем составляла 46.2 особи/км2. В годы, когда она превышала эту величину, осенне-зимняя погода сильнее влияла на будущее число гнездящихся пар. В такие сезоны плотность гнездового населения была прямо связана со среднемесячной температурой ноября (r=0.69, p<0.05) и мало зависела от температур декабря (r=0.35, n. s.) и января (r=0.22, n. s.). В годы с низкой осенней плотностью населения ноябрьская температура ока-
Таблица 11
Корреляционные связи плотности гнездового населения большой синицы с демографическими параметрами текущего и предшествующего сезонов размножения и погодой
|
Показатель |
r |
p |
n |
|
Текущий сезон Плотность населения иммигрантов |
0.94 * |
<0.001 |
25 |
|
Плотность населения резидентов |
0.73 |
<0.001 |
25 |
|
и местных птиц Доля первогодков среди |
0.15 |
n. s. |
25 |
|
гнездового населения Возврат птиц, гнездившихся |
0.19 |
n. s. |
25 |
|
в предыдущем году Возраст искусственных гнездовий |
–0.25 |
n. s. |
25 |
|
Дата устойчивого перехода средне- |
0.45 |
<0.05 |
23 |
|
суточной температуры через 0 °C Дата накопления суммы |
–0.42 |
<0.05 |
23 |
|
эффективных температур 50 °C Среднемесячная температура января |
0.19 |
n. s. |
23 |
|
февраля |
–0.10 |
n. s. |
23 |
|
марта |
0.02 |
n. s. |
23 |
|
апреля |
0.49 |
<0.05 |
23 |
|
мая |
0.10 |
n. s. |
23 |
|
Предшествующий сезон Плотность гнездового населения |
0.21 |
n. s. |
25 |
|
Величина первой кладки |
0.26 |
n. s. |
25 |
|
Успешность размножения |
–0.07 |
n. s. |
25 |
|
Частота вторых кладок |
0.29 |
n. s. |
20 |
|
Продуктивность размножения (слетков/пару) |
0.15 |
n. s. |
25 |
|
Осенняя плотность населения (сумма взрослых и вылетевших |
0.27 |
n. s. |
25 |
|
из гнезд молодых птиц/км2) Среднемесячная температура ноября |
0.16 |
n. s. |
24 |
|
декабря |
0.39 |
0.06 |
24 |
* – значимые коэффициенты корреляции выделены жирным шрифтом.
зывала на нее обратное действие (r= –0.5, p<0.05), а декабрьская и январская – практически не влияли (r=0.27, r=0.17, n. s.).
Весенняя погода, в первую очередь апрельские температуры воздуха, отчетливо сказывалась на динамике численности птиц (табл. 11).
Возможно, она влияла на уровень смертности в период распределения по территории и обострения социальных конфликтов. Также не исключено, что погода сказывалась на биотопи-ческом перераспределении птиц: весенние холода могли сдерживать уход птиц из зимовочных стаций и стимулировать более плотное заселение ими оптимальных местообитаний, препятствуя оттоку в маргинальные.
Известно, что на динамику популяции большой синицы, как и многих других птиц, влияет комплекс факторов, как эндогенных, та- ких как зависящие от плотности продуктивность размножения, смертность молодых и взрослых птиц, эмиграция и иммиграция, так и экзогенных – состояние кормовой базы, погодные условия и т. д. Сложное взаимодействие этих факторов по-разному отражается на изменении численности отдельных популяций и делает невозможным построение единой универсальной модели [31], [7], [37], [44], [8], [26], [12] и др. Изучение оседлой популяции в южной Англии в лесу близ Оксфорда показало, что основной причиной ежегодных колебаний гнездового населения здесь была динамика выживаемости первогодков [36], [37], [42]. Она практически не зависела от зимней погоды и отчетливо коррелировала лишь с урожаем буковых орешков, хотя основной отход происходил в первые месяцы жизни до перехода птиц на этот вид корма. Это связывали с тем, что урожай бука мог совпадать с плодоношением других видов деревьев, с благоприятной погодой и с обилием насекомых. В меньшей степени на динамику гнездового населения влияла выживаемость взрослых птиц, а плотность-зави-симая продуктивность размножения и соотношение эмиграции и иммиграции не сказывались вовсе. Кребс [34] подтвердил основные заключения Лэка и Перринса и сделал вывод, что слабо зависящая от плотности и территориального поведения зимняя смертность первогодков и взрослых птиц – ключевой фактор, определяющий динамику обследуемой популяции. Позднее Кломп [30], не оспаривая этого утверждения, показал, что в лесу Марлей у Оксфорда зависимая от плотности продуктивность размножения играет важную роль в стабилизации численности синиц. Влияние погоды на динамику этой популяции, по мнению Лэка [36], [37] и Перринса [42], было незначительным и проявлялось только в необычно холодные зимы 1946–1947 и 1966–1967 годов с длительным залеганием снега. Однако, как показал анализ их материалов с привлечением большего числа погодных факторов, плотность гнездового населения коррелировала с зимними и ранневесенними температурами воздуха: среднемесячными февральскими [34] за период с конца января до середины апреля и наиболее значимо – за период с 11 по 30 марта [43]. В других частях Британии на динамику численности синиц влияли ноябрьские температуры [39]. Подробный анализ более продолжительных рядов данных по популяции у Оксфорда показал, что ее динамика зависит от зимних и ранневесенних температур воздуха, от урожая бука, а также от плотности населения предшествующего года [38].
Выживаемость птиц во внегнездовой период выступала ведущим фактором динамики популяций больших синиц в Голландии и Бельгии, но здесь она более отчетливо зависела от плотности населения и зимней погоды. Важную роль при этом играли продуктивность размножения, тер- риториальное поведение и процессы эмиграции и иммиграции, связанные как с плотностью населения, так и с состоянием кормовой базы [31], [32], [33], [30], [19], [23].
В юго-западной Финляндии на динамику гнездового населения отчетливо влияли только погодные условия зимы [26], а в условиях более сурового климата Подмосковья связь погоды с плотностью гнездового населения была менее заметна в связи с зимовкой значительной части птиц за пределами района размножения [5], [6].
Таким образом, в разных частях ареала в зависимости от специфики локальных условий на динамику популяций оказывает влияние комплекс разных по характеру и силе воздействия факторов, среди которых не всегда удается выделить решающие. Да и такое выделение, по мнению Н. П. Наумова [8], будет неправильным, так как оно приведет к упрощению сложных взаимосвязей. Судя по составу и динамике местного населения, таежные леса Приладожья представляют собой субоптимальные, или «буферные», местообитания для большой синицы. Плотность гнездового населения здесь невысока и сильно колеблется по годам. Репродуктивная стратегия популяции направлена на максимальный уровень воспроизводства, ограничиваемый только физиологическими возможностями птиц и ресурсами внешней среды, но итоговая продуктивность размножения не влияет на будущую плотность гнездового населения. Основную роль в динамике численности играют иммигранты, причем по имеющимся данным невозможно установить происхождение этих птиц: это могут быть и сопредельные участки леса, и достаточно отдаленные территории.
Определенное влияние на плотность гнездового населения оказывает погода, но ее действие зависит от ряда других факторов. Теплая погода в ноябре положительно влияет на будущую плотность гнездового населения при высокой осенней численности, а при низкой – отрицательно. Возможно, так проявляется совместное действие погоды и территориального поведения на выживаемость птиц. Теплая поздняя осень ведет к задержке синиц в районе исследований и, по-видимому, к последующей повышенной смертности их зимой. При низкой плотности популяции большинство птиц может оставаться здесь, при высокой – только часть, так как осенняя борьба за территорию будет вынуждать излишек птиц откочевывать в другие местообитания, где они могут найти более благоприятные условия и успешно пережить зиму.
Зимние холода, в первую очередь декабрьские температуры воздуха, сказывались на плотности гнездового населения, причем и их действие зависело от особенностей распределения птиц по территории. В годы, когда часть птиц оставалась на зимовку в районе развески гнездовий, эта связь была отчетливой, а в годы, когда птицы откочевывали из этого района, она пропадала.
Большую роль в динамике гнездового населения большой синицы Приладожья, так же как и в южной Англии [43], [38], играли апрельские температуры воздуха. Возможно, они влияли на характер перераспределения птиц между оптимальными и маргинальными местообитаниями или на смертность птиц в этот период.
По имеющимся материалам можно заключить, что на динамику местного населения влияли разные, часто взаимосвязанные факторы, среди которых трудно выделить ключевой: это интенсивность иммиграции и выживаемость во вне-гнездовой период, погода в критические сезоны годового цикла птиц, осенняя плотность популяции и особенности территориального поведения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таежные леса Карелии представляют для большой синицы субоптимальные местообитания, что проявляется в низкой плотности (около 4 пар/км2) и значительном преобладании первогодков над взрослыми особями в составе гнездового населения. Как и в других частях ареала, птицы предпочитают спелые древостои с преобладанием или значительной примесью лиственных пород, хотя чистые черноольшаники избегают, по-видимому, в связи с поздними сроками вегетации ольхи. Плотно сомкнутые хвойные леса менее привлекательны для птиц, так как отличаются более поздним сходом снега и запаздыванием весенних фенологических явлений, что проявляется и в задержке сроков начала гнездования. Биотопические различия проявляются и в частоте вторых кладок – в предпочитаемых стациях большее число птиц участвует во втором цикле размножения, что, по-видимому, связано с состоянием кормовой базы в разных типах леса.
Сроки начала кладки зависели от биотопа и хода апрельских температур воздуха, особенно сильно на птиц влияла дата накопления суммы эффективных температур 50 ºС, совпадающая с «датой детерминанта» (determinant date) – условного времени старта быстрого развития ооцитов у большинства самок [31]. Однако ни этот, ни любой другой из рассмотренных в работе температурных показателей нельзя назвать пороговым для обследуемой популяции в связи с сильными ежегодными вариациями их значений.
Величина кладки не зависела ни от плотности гнездового населения, ни от биотопа. Она линейно уменьшалась в течение сезона, в среднем на 0.043 яйца в день. В отличие от более южных частей ареала, в Приладожье отмечена необычная тенденция связи возраста самки со сроками и величиной кладки: первогодки гнездились на день раньше старых птиц и откладывали чуть больше яиц. Эти различия не были значимыми, но в итоге величина выводка у первогодков была достоверно большей. Возраст самца положительно сказывался на сроках размножения, но не влиял на вели- чину кладки. Отсутствие возрастных различий у самок большой синицы в сроках начала и величине кладки характерно для исследуемого региона [25], [3] и, по-видимому, связано с тем, что в этих широтах на птиц сильное действие оказывают нестабильные внешние условия, на фоне которых возрастные особенности репродукции играют незначительную роль и не всегда проявляются в природе.
В Приладожье вторые кладки имели 47.8 % пар, успешно выкормивших первый выводок. Плотность гнездового населения и возрастной состав пар на частоту бициклии существенного влияния не оказывали. В разнообразных по составу пород древостоях птицы приступали ко второму циклу размножения чаще. Погода зимы – среднемесячная температура воздуха в феврале, положительно влияла на частоту бициклии, очевидно, воздействуя на состояние кормовой базы через успешность зимовки беспозвоночных животных. Интервал между первым и вторым циклами размножения не отличался от других частей ареала. Дистанция между первым и вторым гнездами одной пары была более значительной (около 230 м), что, вероятно, связано с изменением кормовой базы в течение сезона и возможностью расширения участка обитания при отсутствии территориальной конкуренции с соседями.
Успешность размножения в Приладожье довольно высока: до вылета выводка сохраняется около 77 % гнезд, а 67.9 % отложенных яиц дают слетков. Несмотря на значительные вариации по годам, она не зависела от плотности гнездового населения, биотопа, возрастного состава популяции и сроков размножения. Основную роль в динамике этого показателя играли частичный отход птенцов в первых и ранних выводках, доля погибших гнезд и среднемесячная температура воздуха в мае. Доля погибших гнезд колебалась под влиянием случайных причин, а на динамику частичной смертности птенцов отчетливо влияла погода предшествующей зимы – сумма среднемесячных температур за декабрь, январь и февраль. По-видимому, зимняя и весенняя погода сказывалась на птицах через состояние кормовой базы, влияя на выживаемость и летнее обилие беспозвоночных животных. Общая продуктивность размножения варьировала по годам и в среднем составляла около 10 слетков на пару гнездящихся птиц за сезон. Она зависела от успешности гнездования и частоты бициклии и в меньшей степени – от особенностей зимней и весенней погоды.
Приблизительная оценка смертности показывает, что у самцов она составляет около 52 %, у самок – 55–60 %, а у молодых птиц на первом году жизни – около 89 %.
Низкая плотность гнездового населения большой синицы в Приладожье препятствует действию зависящих от плотности механизмов регуляции плодовитости, поэтому репродуктивная стратегия популяции направлена на максимальный уровень воспроизводства, ограничи- ваемый только физиологическими возможностями птиц и ресурсами среды обитания.
Динамика численности местного населения практически не зависела от продуктивности размножения в предшествующем сезоне, она определялась интенсивностью притока иммигрантов, составляющих около 89 % гнездового населения, и выживаемостью птиц во внегнез-довой период. Определенное влияние на нее оказывала погода в критические периоды годового цикла – во время осеннего и весеннего перераспределения по территории и зимовки. При этом действие погоды проявлялось в зависимо- сти от плотности популяции и особенностей территориального поведения птиц.
БЛАГОДАРНОСТИ
Автор приносит глубокую благодарность коллегам В . Б. Зимину, Н. В . Лапшину и Т. Ю. Хохловой за помощь при проведении полевых исследований. На заключительных этапах работа частично финансировалась РФФИ и Нидерландским фондом поддержки научных исследований (NWO), гранты № 047.009.01, 047.017.009/05-0489004.
* Окончание статьи , начало в журнале «Ученые записки Петрозаводского государственного университета». Июнь, 2008. №2 (92). С. 31–43.
P. 265–289.
Список литературы Популяционная экология большой синицы Parus major в таежных лесах Карелии. Часть 2. Продуктивность размножения и динамика популяции
- Бианки В. В., Шутова Е. В. К экологии большой синицы в Мурманской области//Бюлл. МОИП. Отд. биологии. 1978. Т. 83. Вып. 2. С. 63-70.И
- Зимин В. Б. Материалы по гнездованию большой синицы (Parus major L.) в Карелии//Фауна и экология птиц и млекопитающих таежного Северо-Запада СССР. Петрозаводск: Изд-во КФ АН СССР, 1978. С. 17-31.И
- Зимин В. Б. Экология воробьиных птиц северо-запада СССР. Л.: Наука, 1988. 184 с.И
- Лихачев Г. Н. О взаимоотношениях большой синицы и мухоловки-пеструшки при заселении ими искусственных гнездовий//Привлечение и переселение полезных насекомоядных птиц в лесонасаждения степной и лесостепной зоны. М.: Сельхозгиз, 1954. C. 87-96.И
- Лихачев Г. Н. Материалы по биологии птиц, гнездящихся в искусственных гнездовьях//Тр. Приокско-Террасного гос. заповедника. 1961. Вып. 4. С. 82-146.И
- Лихачев Г. Н. Размножение и численность большой синицы (Parus major) на юге Московской области//Сибирский экологический журнал. 2002. № 6. С. 757-773.И
- Лэк Д. Численность животных и ее регуляция в природе. М.: Иностр. лит., 1957. 404 с.И
- Наумов Н. П. Экология животных. М.: Высш. школа, 1963. 620 с.И
- Наумов Н. П., Никольский Г. В. О некоторых общих закономерностях динамики популяций животных//Зоол. журн. 1962. Т. 41. Вып. 8. С. 1132-1141.И
- Носков Г. А., Смирнов О. П. Территориальное поведение и миграции большой синицы (Parus m. major L.). Экология птиц Приладожья//Труды БИНИИ ЛГУ. 1981. Вып. 32. С. 100-130.И
- Нумеров А. Д. Популяционная экология большой синицы в Окском заповеднике//Орнитология. М.: Изд-во МГУ, 1987. Вып. 22. С. 3-21.И
- Паевский В. А. Демография птиц. Л.: Наука, 1985. 285 с.И
- Пианка Э. Эволюционная экология. М.: Мир, 1981. 400 с.И
- Семенов-Тян-Шанский О. И., Гилязов А. С. Птицы Лапландии. М.: Наука, 1991. 288 с.И
- Смирнов О. П., Носков Г. А. Структура популяции большой синицы в Ленинградской области//Экология. 1975. № 6. С. 79-83.И
- Смирнов О. П., Тюрин В. М. К биологии размножения большой синицы в Ленинградской области//Орнитология. М.: Изд-во МГУ, 1981. Вып. 16. С. 185-188.И
- Яремченко О. А., Болотников А. М. Биология размножения большой синицы//Орнитология. М.: Изд-во МГУ, 1988. Вып. 23. 81-93.И
- Balen J. H. van. A comparative study of the breeding ecology of the great tit (Parus major) in different habitats//Ardea. 1973. V. 61. P. 1-93.
- Balen J. H. van, Noordwijk A. J. van, Visser J. Liefetime reproductive success and recruitment in two Great Tit populations. Ardea. 1987. V. 75. P. 1-11..
- Bulmer M. G., Perrins C. M. Mortality in the Great Tit Parus major. Ibis. 1973. V. 115. P. 277-281..
- Cramp S., Perrins C. M. Flycatchers to Shrikes. The Birds of the Western Palearctic. V. VII. Oxford university press, 1993. 577 p..
- Dekhuijzen H. M., Schuijl G. P. J. Changes in breeding success of Great Tit Parus major and Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca on the Veluwe and the Gooi, 1973-92. Limosa. 1996. V. 69. P. 165-174..
- Dhondt A. A. Trade-offs between reproduction and survival in tits. Ardea. 2001. V. 89 (spec. issue). P. 155-166..
- Glutz von Blotzheim U. N., Bauer K. M. Muscicapidae -Paridae. Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Bd.13. Teil 1. Wiesbaden, Aula-Verlag. 1993. 808 s..
- Haartman L. von. The Nesting Habits of Finnish birds 1. Passeriformes. Commentationcs Biologicae Soc. Sci. Fenn. 1969. V. 32. P. l-187..
- Haartman L. von. Population dynamics/Farner D. S., King. J. R. (eds). Avian biology. V. 1. London: Academic Press, 1971. P. 391-459..
- Haartman L. von. Breeding time of the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca. Population biology in passerine birds. NATO ASI Series. V. G 21. Berlin. Springer, 1990. P. 1-16. 10.Hôrak P., Lebreton J.-D. Pathways of selection in avian reproduction: a functional framework and its application in the population study of the Great Tit (Parus major). Ph. D.-thesis. Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis. V. 16. Tartu University Press, 1995. 118 p.
- Järvinen A., Pryl M. Egg dimensions of the Great Tit Parus major in southern Finland. Ornis Fennica. 1989. V. 66. P. 69-74..
- Klomp H. Fluctuations and stability in Great Tit populations. Ardea. 1980. V. 68. P. 205-224..
- Kluyver H. N. The population ecology of the Great Tit Parus m. major L. Ardea 39. 1951. P. 1-135..
- Kluyver H. N. Regulation of a bird population. Ostrich. Suppl. 6. 1966. P. 389-396..
- Kluyver H. N., Tinbergen L. Territory and the regulation of density in titmice//Arch Neerl. Zool. 1953. V. 10. P. 265-289..
- Krebs J. R. Regulation of numbers in the Great Tit (Aves: Passeriformes). J. Zoology. London. 1970. V. 162. P. 317-333..
- Krebs J. R. Territory and breeding density in the Great Tit Parus major. Ecology. 1971. V. 52. P. 2-22..
- Lack D. A long-term study of the great tits (Parus major). J. Animal Ecology. 1964. V. 50. P. 375-386..
- Lack D. Population studies of birds. Oxford: Clarendon Press, 1966. 341 p..
- Leberton J.-D. Modelling density dependence, enviromental variability, and demographic stochasticity from population counts: an example using wytham wood Great Tits. Population biology of passerine birds. NATO ASI Series. V. G 21. Berlin. Springer, 1990. P. 89-102..
- O'Connor R. J. Pattern and process in Great Tit (Parus major) populations in Britain. Ardea 1980. 1980. V. 68. P. 165-183..
- Orell M., Ojanen M. Mortality rates of the Great Tit, Parus major in a northern population. Ardea. 1979. V. 67. P. 130-133..
- Orell M., Ojanen M. Breeding success and population dynamics in a northern great tit Parus major population. Ann. Zool. Fennici. 1983. V. 20. P. 77-98..
- Perrins C. M. Population fluctuations and clutch-size in the Great Tit, Parus major L. J.//Animal Ecology. 1965. V. 34. P. 601-647..
- Slagsvold T. Critical period for regulation of Great Tit (Parus major L.) and Blue Tit (Parus caeruleus L.) populations//Norw. J. Zool. 1975. V. 23. P. 67-88..
- Wynne-Edwards V. C. Animal dispersion in relation to social behavior. Edinburgh; London, 1962. 653 p.