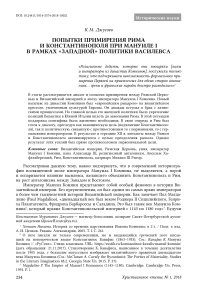Попытки примирения Рима и Константинополя при Мануиле I в рамках "западной" политики Василевса
Автор: Джусоев Константин Муратович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 1 (78), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается диалог и попытки примирения между Римской Церковью и Византийской империей в эпоху императора Мануила I Комнина. Новый василевс из династии Комнинов был «европейским рыцарем» на византийском престоле, увлеченным культурой Европы. Он дважды вступал в брак с латинскими принцессами. Но главной целью его внешней политики было укрепление позиций Византии в Южной Италии вплоть до завоевания Рима. В этой ситуации поддержка понтифика была жизненно необходима. В свою очередь и Рим был готов к диалогу, преследуя как каноническую цель (подчинение Константинополя), так и политическую, связанную с противостоянием то с норманнами, то с германскими императорами. В результате в середине XII в. контакты между Римом и Константинополем активизируются с целью преодоления раскола. Однако результат этих усилий был прямо противоположен первоначальной цели
Византийская империя, римская церковь, уния, император мануил i комнин, папа александр iii, религиозный антагонизм, ансельм ха- фельбергский, рим, константинополь, патриарх михаил iii ритор
Короткий адрес: https://sciup.org/140223516
IDR: 140223516
Текст научной статьи Попытки примирения Рима и Константинополя при Мануиле I в рамках "западной" политики Василевса
Рассматривая данную тему, важно подчеркнуть, что в современной историографии посвященной эпохе императора Мануила I Комнина, не выделяется, а порой и оспаривается влияние василевса, желавшего объединить Константинополь и Рим, на рост антагонизма между Западом и Востоком.
Император Мануил Комнин представляет собой особый феномен в истории Византийской империи. Без преувеличения, он был одним из самых ярких императоров в более чем тысячелетней истории Византийской империи. Как замечает Пол Магда-лино (Paul Magdalino), «двенадцатый век был веком Роджера II Сицилийского, Генриха Плантагенета, Фридриха Барбароссы и Саладина. Это был также век Мануила Ком-нина2, который правил Константинопольской империей с 1143 по 1180 год»3. Будучи
василевсом ромеев, он не только не чуждался европейской культуры, но и стремился к активному диалогу с ней, будучи поклонником Запада. Конечно же, он как император стремился не только расширить границы своего государства, но и вернуть влияние империи если не в Европе, то по крайней мере на юге Апеннинского полуострова. Для достижения этой цели ему было необходимо заручиться поддержкой Римского епископа. В свою очередь, и Рим нуждался в поддержке василевса в борьбе за независимость как от норманнского влияния, так и от попыток подчинения со стороны императоров Германской империи. К тому же после 1054 г. связь между Римом и Константинополем в течение столетий была обусловлена прежде всего политическими интересами. Таким образом, в середине XII в. формируются существенные предпосылки для преодоления схизмы между ромеями и латинянами. Однако попытки примирения привели в результате к обратному эффекту роста антагонизма. В данной статье мы рассмотрим и попытаемся выявить причины, повлиявшие на отдаление друг от друга Римской и Константинопольской Церквей.
Рассматривая как внешнюю, так и внутреннюю политику императора Мануила I, необходимо учитывать его особое отношение к европейской культуре. Увлечение Европой и западной культурой в целом можно объяснить и тем, что матерью Ману-ила I была венгерская принцесса, императрица Ирина (ок. 1089–1134, венгерское имя Пирошка)4, связанная родственными узами с германскими правящими домами5. Сам Мануил I оба раза был в браке с латинскими принцессами: Бертой Зульцбахской, родственницей жены германского императора Конрада III (1138–1152), и Марией Антиохийской (1161–1182), дочерью латинского князя Антиохии Раймунда де Пуатье (1136–1149). Таким образом, именно с этим василевсом можно было связывать надежды на восстановление прежних отношений с европейским миром. Европейское влияние на василевса ощущалось не только на культурном, но и на государственном уровне. Управляя империей, Мануил окружил себя латинскими чиновниками, «заполонившими» армию, приказы и придворное ведомство6.
При этом ошибочно считать наследника Иоанна Комнина одержимым Западом и усматривать противоречие между восточной политикой отца и западной ориентацией сына. По словам современного исследователя, «во времена Мануила менее чем когда-либо можно было разделить проблемы Востока и Запада, и развитие событий при Иоанне II уже демонстрирует это со всей очевидностью. <…> Как и при Иоанне, на первом плане у Мануила стояли византийско-норманнские противоречия»7. Таким образом, ведя борьбу в южном-итальянском регионе против норманнов, Мануил продолжал восточную политику своего деда и отца. И именно реализация этой политики требовала от василевса обращения за поддержкой к Римским понтификам. Эта связь с Европой не могла не влиять и на отношение Мануила Комнина к Римской Церкви, выражавшееся в желании выстроить диалог с понтификами. Очевидно и то, что ни император Мануил, ни Римские понтифики его эпохи не были согласны с ситуацией, сложившейся в отношениях между Римом и Константинополем. К тому же интересы василевса и Римских епископов в этот период истории совпадали.
В результате, несмотря на растущий антагонизм между ромеями и латинянами, Мануил всесторонне способствовал диалогу, как политическому, так и богословскому, между Римом и Константинополем. К примеру, при Мануиле I Комнине в Константинополе дважды (в 1136 и в 1154 гг.) побывал в роли посла германского императора Лотаря III епископ Ансельм Хафельбергский (1129–1155)8. Причем оба раза во время посещения столицы ромеев он вступал в богословский диспут с архиепископами — Никомидии Никитой и Охрида Василием. Тема дискуссии была традиционной для этой эпохи противоречий между Римом и Константинополем — об исхождении Св. Духа, употреблении опресноков и папской власти9. При этом целью Ансельма было не только провести богословские дискуссии, но и заключить антинорманнский союз10.
Важно отметить и то, что эти дискуссии были весьма уважительны и кардинально отличалась от полемики эпохи кардинала Гумберта и патриарха Михаила Керула-рия11. Как отмечено и в сохранившемся тексте диалога, «двери для дискуссии с обеих сторон были раскрыты»12. К примеру, Василий Охридский в одном из писем к папе Адриану IV обращается к понтифику довольно почтительно, выказывая ему уваже-ние13. Но, к сожалению, подобный пример не был характерной чертой в полемике между Римом и Константинополем, «вряд ли другие споры латинских и византийских богословов XII в. проходили в столь же бесстрастной обстановке, как вышеописанные переговоры»14. Такие уважительные взгляды встречались довольно редко, поскольку «византийское духовенство было в большинстве своем враждебно к Риму»15. В качестве примера стоит привести полемику с латинянами епископа Николая Мефонского16. Однако важно отметить, что к 1160 г. епископ Николай, скорее всего, изменил свое первоначальное отношение на более мягкое. Как пишет А. В. Бармин, подробно изучивший его полемику с латинянами, «возможно, отношение Николая к западным христианам с ходом времени несколько потеплело, и с этим хорошо согласовывалась бы его близость к ведшему оживленные переговоры с папством Ма-нуилу I, чей замысел объединительного церковного собора Мефонский предстоятель полностью одобрил около 1160 г.»17. И все же это было исключением, а не правилом.
Подобная тенденция негативного отношения к латинянам была характерной в целом для византийского общества.
Особого внимания в связи с рассматриваемой темой заслуживает статья яркого отечественного византиниста Х. М. Лопарева «Об униатстве Мануила Комнина»18. Ее темой является василевс, его желание вести диалог с римскими понтификами с целью решения внешнеполитических вопросов. «Большой и дальновидный политик, — пишет Х. М. Лопарев, — Мануил Комнин, подобно своему деду, также оценил значение папы как центрального лица, вокруг которого группировались итальянские государства и от которого во многом зависело дать тот или другой ход делу»19.
В русле этой политики была предпринята попытка объединения Церквей, предложенная императором Мануилом и связанная с его коронацией в Риме20. И даже в 1169 г. Мануил предложил Римскому понтифику Александру III (1159–1181) стать патриархом Рима и Константинополя21, а папа «начал пересматривать свою концепцию западной империи и подумывал о том, что, может быть, разумнее признать Мануила единственным законным императором»22. В том же 1169 г. упокоился Константинопольский патриарх Лука Хризоберг (1156–1169), что делало вакантным столичный престол. Эти утопичные идеи императора удивили даже папу. Желание объединить Церкви под властью одного Римского патриарха было излишним, по мнению понтифика. В своем ответе Мануилу Комнину Александр III убеждал, что готов поддержать те идеи, которые касались светской власти (признание императора). Здесь было необходимым учесть лишь некоторые аспекты: признание главенства Римской Церкви с правом решения спорных вопросов именно в Риме и, конечно же, включение в Константинопольские диптихи имени понтифика23. Разумеется, предложение папы было более реалистично, чем идеи василевса. Однако и оно было обречено на неудачу. Мануил мог повлиять на Церковь для принятия условий папы, но даже включение в диптихи имени Римского епископа требовало от последнего представления своего исповедания веры, по существовавшей традиции. И конечно, текст, который содержал бы в себе Filioque, не был бы принят, «больше того: для Византии первенство было лишь почетным, для Рима это означало господство. Требование признать за Римом право верховного судьи не могло быть принято Константинополем ни в коем случае»24. К тому же василевс не мог долгое время удерживать вакантной кафедру Константинопольского патриарха. Мысль понтификов о том, что василевсы способны оказать существенное влияние на Восточную Церковь, оказалась исторически неоправданной, «латиняне полагали, что вместе с ним (императором. — К. Д. ) была завоевана Церковь»25.
К тому же новоизбранный предстоятель Константинопольской Церкви, патриарх Михаил III Ритор (1169–1177), критически воспринял предложенный папой сценарий примирения, обрушившись с критикой на идею о первенстве Рима. Как замечает Х. М. Лопарев, опубликовавший текст диалога императора Мануила Комнина и патриарха Михаила26, «новый патриарх менее, нежели кто-либо из его предшественников, склонен был идти на какие-либо уступки Риму и прямо заявлял, что он скорее предпочтет магометан, нежели латинян»27. Эти слова Константинопольского патриарха Михаила III, человека не только весьма эрудированного, но и прежде всего образованного, получившего за глубину знаний в области канонического права титул «ипата философии»28, показывают реальную ситуацию, то, насколько Константинополь отдалился от Рима и не был готов идти на диалог.
Сам василевс шел не только на риск, будучи «готов поступиться православием, которым он не имел права располагать»29, «в угоду папе или, вернее сказать, для достижения своего честолюбивого замысла он рискнул даже поступиться самою жемчужиною своей империи — самим православием»30. Как замечает Дональд Николь
(Donald M. Nicol), «император Мануил не завоевал сердца своего народа латинофильской политикой. Византийцы с отвращением наблюдали, как большинство латинян обрели благосклонность и богатство при его дворе»31. Более того, Никита Хониат выразил в своей «Истории» то недовольство, которое царило в византийском обществе ввиду «западной» политики Мануила I Комнина, и, с другой стороны, справедливо оправдал его32.
Таким образом, как результат попытки объединения вызвали лишь очередную волну антагонизма. В эпоху императора Мануила I Комнина становится очевидным антагонизм не только в кругу духовенства, но прежде всего среди широких народных масс. Причины этого трагического для Церкви явления, на наш взгляд, заключаются не только в негативном воздействии на византийское общество Крестовых походов, не только в богословских разногласиях, а также в попытках понтификов возглавить Вселенскую Церковь (и как следствие — в столкновении христианского Запада и Востока), но и в политике императора Маниула Комнина (1143–1180).
Список литературы Попытки примирения Рима и Константинополя при Мануиле I в рамках "западной" политики Василевса
- Хониат Никита. История со времени царствования Иоанна Комнина: в 2 т./Подг.к изд. А. И. Цепков. Рязань: Александрия, 2003. Т. 1.
- Νικόλαος Μεθώνης. Προς Λατίνους περί της εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος, ότι εκ τουΠατρός, ου μην και εκ του Υιού το Πνεύμα το άγιον εκπορεύεται. Έκδοση 1859, Λονδίνο, έκδοσηυπό Κωνσταντίνου Σιμωνίδου.
- Βασιλειου Αχριδηνου. «Αντιγραφή» τού άγιωτάτου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, κυρίουΒασιλείου τού «Αχριδηνού, πρός τόν πάπαν» Ρώμης κύριον Αδριανον//PG. 119. 929A.
- Anselmi Havelbergensis ep. Dialogi. Lib. I-III//PL. 188. Col. 1139-1248.
- Manuel Comnenus leters cited in Waterich. Pontificum Romanorum Vitae. 1099-1198.Lipsae, MDCCCLXII.
- Бармин А. В. Полемика и схизма. М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы,2006.
- Васильев А. А. История Византии. Византия и крестоносцы. Эпоха Комнинов (1081-1204) и Ангелов (1185-1204). Петербург: Academia, 1923.
- Воскобойников О. С. Ансельм. Православная энциклопедия. Т. 2.
- Жаворонков П. И., Турилов А. А. Богомильство. Православная энциклопедия. М., 2002.Т. 5.
- Кавафис К. Мануил Комнин // «РуСтих». Стихи классиков. URL: htps://rustih.ru/konstantinos-kavafis-manuil-komnin/ URL (дата обращения: 21.11.2017).
- Конгар И. Девять веков спустя. Заметки о Восточной схизме. Киев, 2011.
- Лопарев Х. М. Об униатстве Мануила Комнина//Византийский временник. Т. XIV.СПб., 1907.
- Пападакис А., Мейендорф И., прот. Христианский Восток и возвышение папства. Цер-ковь в 1071-1453 гг./Пер. с англ. А. В. Левитского, У. С. Рахмановой, А. А. Чеха. М.: ПСТГУ,2010.
- Портал «Бабр. ру. Сибирский регион». URL: htp://babr.ru/genealogy/index.php?DDE=3958(дата обращения: 03.03.2017).
- О. В. Л. Ирина, св. имп. Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 26.
- Острогорский Г. А. История Византийского государства/Пер. с нем. М. В. Грациан-ский; ред. П. В. Кузенков. М.: Сибирская Благозвонница, 2011.
- Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. М.: Наука, 1998.
- Успенский Ф. И. История Византийской империи: в 5 т. М.: АСТ, 2005. Т. 4. Отдел VI:Комнины. Отдел VII: Расчленение империи.
- Paraskevopoulou V. Some Aspects of the Phenomenon of Heresy in the Byzantine Empireand in the West, During the 11th and 12th Centuries. Doctor dissertation of Philosophy. NY, Un.,1976.
- Magdalino P. Te Empire of Manuel I Komnenos (1143-1180). Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1993.21. McClanan A. Cavafy the Byzantinist: Te Poetics of Materiality. Studies in the LiteraryImagination 48.2. Georgia State Un. 2015. P. 37.
- Nicol Donald M. (Donald MacGillivray). Byzantium and Venice. A study in diplomaticand cultural relatior. Cambridge: Cambridge University Press, 2002