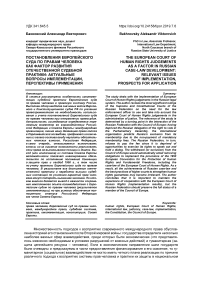Постановления Европейского суда по правам человека как фактор развития отечественной судебной практики: актуальные вопросы имплементации, перспективы применения
Автор: Бахновский Александр Викторович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 7, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности имплементации судебной практики Европейского суда по правам человека в правовую систему России. Выполнен обзор наиболее значимых актов Верховного и Конституционного судов РФ по указанию правоприменителю на необходимость использования и учета постановлений Европейского суда по правам человека при отправлении правосудия. Актуальность исследования определяется переломным моментом во взаимодействии Российской Федерации и Совета Европы: международная организация, лишив нашу делегацию права голоса в Парламентской ассамблее, предрекает исключение из своего состава ввиду неуплаты обязательных членских взносов. Российская Федерация, в свою очередь, отказывается выплачивать взносы из-за лишения возможности реализовать свои права на высказывание позиции и диалог. Выход (или исключение) из состава Совета Европы автоматически повлечет нивелирование обязательств по исполнению положений Конвенции о защите прав и свобод 1950 г., в том числе по учету практики Европейского суда по правам человека. В результате все достижения отечественной практики и наработки высших судебных инстанций по усилению гарантий прав человека могут потерять нынешнее значение. По итогам анализа делается вывод о важности сохранения накопленного опыта взаимодействия с Европейским судом по правам человека (результатов имплементации), но при условии обеспечения полноценного статуса Российской Федерации как члена Совета Европы.
Права человека, европейский суд по правам человека, международное право, судебная система, практика, имплементация, конституция, совет европы
Короткий адрес: https://sciup.org/149132875
IDR: 149132875 | УДК: 341.645.5 | DOI: 10.24158/tipor.2019.7.6
Текст научной статьи Постановления Европейского суда по правам человека как фактор развития отечественной судебной практики: актуальные вопросы имплементации, перспективы применения
Множественность подходов к восприятию современного международного права обусловлена историей его становления после Второй мировой войны: государства определили несколько наиболее важных сфер взаимодействия, среди которых были экономическая (что представлялось жизненно необходимым в условиях разрушений от военных действий) и гуманитарная (защита ценнейшего ресурса – человека). Если в экономическом направлении шаги государств были очевидны и предсказуемы в части предоставления финансирования и его освоения, то гуманитарное (социальное) взаимодействие не могло иметь четкого плана реализации по причине различного подхода к восприятию системы прав человека и практики их защиты в национальном праве. Постепенное развитие единых стандартов на международном универсальном (ООН) и региональном (Совет Европы) уровнях были последовательными и осторожными, что оправдывалось поставленной задачей – важна была не скорость формальных изменений, а улучшение правового статуса гражданина и личности.
В рамках принятых обязательств государства – члены Совета Европы признали юрисдикцию Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) как органа, призванного контролировать правильность применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. [1] (далее – Конвенция). Ввиду политического и идейного противостояния диалог СССР и Запада проходил в непростых условиях, что не позволило предшественнику современной России стать полноправным участником указанной региональной международной организации. Лишь в 1998 г. наша страна ратифицировала [2] Конвенцию, признав в соответствии с Конституцией России [3] ее положения частью своей правовой системы.
Однако фактическое признание и полноценная реализация закрепленных прав и свобод оказались отдаленными друг от друга категориями. Выработанная ЕСПЧ практика учитывала исторический опыт государств-участников и их традиции, ввиду чего воспринималась странами как органичное продолжение собственных представлений и идей. Для Российской Федерации большинство подходов по расширительному толкованию международных стандартов прав человека были сложны для восприятия из-за невозможности быстрого смещения акцентов. Следует согласиться с мнением С.А. Егорова в части того, что международное и внутригосударственное право никогда не смогут находиться в условиях идеального баланса по причине неготовности последнего обеспечить реализацию норм международного права в их истинном значении [4, c. 100].
Важно также определить порядок проведения реформы внутринационального права, т. е. как именно будут реализованы изменения. Например, подход профессора М.Н. Марченко, заключающийся в том, что «право создается судом, а законодатель затем подхватывает созданное» [5], в данном случае неприменим: отечественная система права должна была и обновить нормативную базу, и предоставить «благодатную почву» для осуществления изменений с учетом чужого правоприменительного опыта (имплементации).
По мнению В.И. Червонюк, понятие «имплементация» (от англ. implementation – 'осуществление', 'выполнение') сводится к «фактическому обеспечению реализации исполнения международных обязательств на внутригосударственном уровне, включая формально определенные способы инкорпорирования международно-правовых норм в национальную правовую систему» [6]. Впервые на уровне монографии данная проблема была исследована А.С. Гавердовским [7, c. 62].
С позиции зарубежных исследователей в разных государствах неодинаковы механизмы интеграции Конвенции в правовую систему [8, c. 226], а значит, различаются качественные и количественные показатели, определяемые различием действующего и подлежащего внедрению правопорядка. С таким подходом следует согласиться ввиду того, что появляется разумное объяснение различия в уровне правовой защищенности в разных странах, приступивших к совершенствованию национальной правовой системы приблизительно в один и тот же промежуток времени.
Ситуация дополнительно осложнялась языковым барьером: постановления ЕСПЧ были изложены на английском и французском языках, а официальные полнотекстовые переводы по-прежнему недоступны, разъяснения высших судебных инстанций всю практику ЕСПЧ охватить были не в состоянии. Постепенный переход к открытости регулирования правоотношений и нормами международного права, и практикой ЕСПЧ потребовал дополнительного внимания со стороны Верховного [9] и Конституционного [10] судов Российской Федерации. Важное значение конвенционным положениям придавал и председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин [11]. Наделяя вопросы восприятия практики ЕСПЧ самостоятельным значением, он указывал: «Мы исходим из того, что нарушения прав и свобод могут быть связаны с дефектами того или иного российского закона… ЕСПЧ может указать на дефекты нашего законодательства...» [12].
В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» указано, что правовые позиции Европейского суда по правам человека, изложенные в постановлениях по делам против России, являются обязательными для национальных судов, а по другим делам – подлежат учету (п. 2) [13].
На данном этапе необходимость и оправданность диалога всеми участниками воспринимались адекватно: и Совет Европы в лице ЕСПЧ, и Российская Федерация как частый ответчик согласились с мнением, что права человека следует защищать вместе с государствами, а не против них.
Учитывая опыт взаимодействия России и ЕСПЧ, стоит отметить, что периодически проявлялись несоответствия европейского и отечественного подходов к восприятию закрепленных прав человека. Например, в деле «Константин Маркин против Российской Федерации» ЕСПЧ посчитал нарушенным принцип гендерного равенства, а наша страна сослалась на особый статус военнослужащего, не предполагавший предоставление заявителю отпуска по уходу за ребенком [14].
С 2014 г. взаимоотношения России и Совета Европы ухудшились, что западные страны объясняли в том числе как результат грубого нарушения норм международного права с нашей стороны ввиду присоединения Крыма и Севастополя на основании референдума. Споры по этой ситуации продолжаются, и ни одна из сторон не предлагает компромиссного варианта разрешения: деструктивная критика действий РФ на внешнеполитической арене достигла абсурда, что неоднократно вызывало обеспокоенность на уровне Министерства иностранных дел России. Параллельно официальные лица нашего государства стали обращать внимание на политический окрас выносимых ЕСПЧ постановлений, что противоречило самой идее взаимодействия в Совете Европы; их содержательная часть приобрела характер недвусмысленного расхождения с положениями внутреннего права, в том числе Конституции России.
Проанализировав опыт других стран (в частности, Германии), 14 июля 2015 г. Конституционный суд РФ указал, что правовые позиции ЕСПЧ не отменяют приоритет Конституции, которая в порядке исключения может отступить от выполнения возлагаемых на нее обязательств в целях защиты основополагающих принципов и норм основного документа (п. 2.2). Впоследствии были внесены изменения в федеральный закон «О Конституционном суде РФ» [15]: инстанция получила право рассматривать вопрос о возможности исполнения постановлений ЕСПЧ при выявлении угрозы нарушения положений Конституции и основ конституционного строя.
-
19 апреля 2016 г. (по ранее рассмотренному ЕСПЧ делу «Анчугов и Гладков против России» [16]) была установлена невозможность наделения избирательными правами лиц, приговоренных к лишению свободы, в момент отбытия наказания (путем внесения изменений в законодательные акты) [17]. По мнению В.И. Торговченкова, таким образом государство не отказывается от исполнения Конвенции, но акцентирует внимание на приоритете положений Конституции на территории Российской Федерации [18].
Ответная реакция Совета Европы – недвусмысленное негодование западных коллег и опасение полномасштабного отказа следовать практике международного судебного органа в обозримом будущем. Однако на момент высказывания такой печальный прогноз не мог претендовать на достаточную степень вероятности, что влекло признание его «пессимистическим», тем более что на национальном уровне практика Европейского суда по правам человека во многих проявлениях для отечественной системы крайне важна. Например, в постановлении от 16 июня 2015 г. по делу «Назаренко против Российской Федерации» суд пришел к выводу о возможности реализации права на общение с ребенком даже при отсутствии биологического отцовства, но при условии наличия фактически сложившихся семейных отношений и тесной эмоциональной связи (ребенок воспринимал небиологического отца как «папу») [19]. По нашему мнению, вынесенное ЕСПЧ постановление полностью соответствует интересам ребенка, но принятие такого решения на основании российского права невозможно.
Несмотря на критику практики ЕСПЧ, невозможно отрицать ее системный характер, органическое единство и полезность для развития системы прав и свобод человека. Профессор Т.Н. Нешатаева, объясняя особенности создания принципов права в практике ЕСПЧ, указывает на формирование «эволюционирующего прецедента» как объединения различных судебных практик, способного к принятию нового правила. Автор условно подразделяет прецеденты ЕСПЧ на «жесткие» («пилотные» постановления, указывающие на системные проблемы) и «мягкие» [20].
Зарубежные исследователи уважительно относятся к практике ЕСПЧ, отмечая уникальность самого судебного разбирательства, позволяющего гарантировать следующее:
-
1) возможность заявителей исключать негативное влияние авторитета официальных государственных лиц – международный судебный орган формально не связан обязательствами перед странами-участниками;
-
2) гибкость подходов суда к вопросам приемлемости жалоб;
-
3) правовую определенность в позиции ЕСПЧ – указание национальным судам на собственную ошибочную практику, нарушающую гарантированные Конвенцией права;
-
4) «прозрачность» в позиции национальных судов – призыв со стороны ЕСПЧ обеспечить при вынесении решения на национальном уровне понимание заявителем, почему состоялось (было вынесено) конкретное решение и почему оно не могло быть вынесено при схожих, но не идентичных обстоятельствах, что представляет собой защиту от «механического» правосудия [21, p. 16–17].
Финальным «аккордом» нетерпимости к России со стороны Совета Европы стало лишение нашей делегации права голоса в Парламентской ассамблее, на что мы ответили отказом перечисления взносов и формированием бюджетного дефицита самой международной организации. Совет Европы впоследствии неоднократно высказывался в пользу исключения РФ из своего со- става за нарушение финансовой дисциплины (август 2019 г.). На момент завершения исследования российская делегация была полностью восстановлена в правах в Совете Европы при условии погашения задолженности, что наше государство и предлагало изначально.
Мы разделяем обеспокоенность отечественных теоретиков и практиков по поводу непоследовательности решений ЕСПЧ при рассмотрении жалоб против Российской Федерации, но склонны полагать, что Европейский суд по правам человека способен привнести существенный вклад в развитие системы прав и свобод человека во внутринациональном пространстве. Так, британские исследователи называют ЕСПЧ самым эффективным (широко признаваемым) международным регулятором по обеспечению соблюдения прав человека в мире [22, p. 180] и, постулируя развитость собственного механизма защиты прав человека, не отказываются от восприятия опыта ЕСПЧ.
Авторитетные подходы Верховного и Конституционного судов Российской Федерации, постепенное вовлечение элементов практики ЕСПЧ в отечественное правоприменение и обеспечение адаптации полнотекстовых решений для национальной судебной практики – это бесконечно полезные наработки, отказ от которых для государства, признающего права и свободы человека высшей ценностью, недопустим.
Ссылки:
Список литературы Постановления Европейского суда по правам человека как фактор развития отечественной судебной практики: актуальные вопросы имплементации, перспективы применения
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143
- Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398
- Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов, С.А. Егоров и др. 4-е изд., стер. М., 2011. 831 с
- Марченко М.Н. Юридическая природа и характер решений Европейского суда по правам человека // Государство и право. 2006. № 2. С. 11-19
- Червонюк В.И. Имплементация решений ЕСПЧвнациональное законодательство (современный контекст) // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 7. С. 15-21
- Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1980. 320 с
- Люббе-Вольфф Г. Европейский суд по правам человека и национальные суды: дело Гергюлю // Имплементация решений Европейского суда по правам человека в практике конституционных судов стран Европы: сборник докладов. М., 2006. С. 224-231
- По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса РФвсвязи с запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан : постановление Конституционного суда РФ от 5 февр. 2007 г. № 2-П // Собрание законодательства РФ. 2007. № 7. Ст. 932
- Зорькин В.Д. Имплементация решений Европейского суда по правам человека в практике конституционных судов стран Европы [Электронный ресурс]: выступление на VIII Международном форуме по конституционному правосудию // Конституционный суд РФ: официальный сайт. 2005. 1 дек. URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=16 (дата обращения: 03.07.2019)
- Зорькин В.Д. Выступление председателя Конституционного суда РФ: редакционный материал // Российский судья. 2009. № 1. С. 16-24
- По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России»: постановление Конституционного суда РФ от 19 апр. 2016 г. № 12-П: в связи с запросом Министерства юстиции РФ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 17. Ст. 2480
- Торговченков В.И. Влияние Европейского суда по правам человека на правовую систему Российской Федерации // Законность. 2016. № 11. С. 32-36
- Нешатаева Т.Н. Решения Европейского суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику. М., 2013. 303 с
- Gerards J.H., Glas L.R. Access to Justice in the European Convention on Human Rights System // Netherlands Quarterly of Human Rights. 2017. Vol. 35, no. 1. P. 11-30.
- DOI: 10.1177/0924051917693988
- Donald A., Gordon J., Leach Ph. The UK and the European Court of Human Rights [Электронный ресурс]: Research Report 83 // Equality and Human Rights Commission. 2012. URL: https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/83._european_court_of_human_rights.pdf (дата обращения: 03.07.2019)