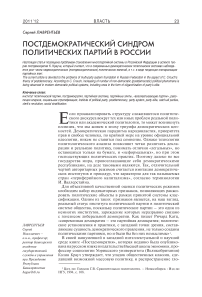Постдемократический синдром политических партий в России
Автор: Лаврентьев Сергей Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 12, 2011 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена проблемам становления многопартийной системы в Российской Федерации в аспекте теории постдемократии К. Крауча, который считает, что в современных демократических политических системах наблюдается рост числа недемократических (постдемократических) политических явлений, в т.ч. в виде тенденции олигархизации партийных элит.
Институт политической партии, постдемократия, партийная система, партийные элиты, "всеохватывающие партии", революция клерков, социальная стратификация
Короткий адрес: https://sciup.org/170165682
IDR: 170165682
Текст научной статьи Постдемократический синдром политических партий в России
Е сли проанализировать структуру сложившегося политического дискурса вокруг тех или иных проблем реальной политики или академической политологии, то может возникнуть иллюзия, что мы живем в эпоху триумфа демократических ценностей. Демократическая парадигма народовластия, приоритета прав и свобод человека, по крайней мере на уровне официальной идеологии, никем не ставится под сомнение. Однако технологии политологического анализа позволяют четко различать декларации и реальную политику, понимать отличия «легальных», но остающихся только на бумаге, и «неформальных», но при этом господствующих политических практик. Поэтому далеко не все государства мира, провозглашающие себя демократическими республиками, на деле таковыми являются. Так, отличительной чертой авторитарных режимов считается имитация демократических институтов и процедур, что характерно для так называемых стран «периферийного капитализма», согласно терминологии И. Валлерстайна.
ЛАВРЕНТЬЕВ Сергей
Для объективной качественной оценки политических режимов необходим набор индикаторных признаков, позволяющих ранжировать политические объекты в рамках принятой системы классификации. Одним из таких признаков является, на наш взгляд, реальный статус института политической партии в политической системе общества, поскольку политические партии – это один из немногих институтов, зарождение которых неразрывно связано с генезисом либеральной демократии. Как пишет Ричард Катц, «современная демократия – это партийная демократия; политические установления и практики, с западной точки зрения, составляющие сущность демократического правления, не только созданы политическими партиями, но и были бы без них немыслимы»1.
В своей нашумевшей в западной интеллектуальной и научной среде книге «Постдемократия», которая недавно была опубликована на русском языке в издательстве Высшей школы экономики, профессор социологии Уорикского университета (Великобритания) Колин Крауч утверждает, что упадок общественных классов, сделавший возможной массовую политику, и распространение гло- бального капитализма привели к возникновению замкнутого политического класса, больше заинтересованного в создании связей с влиятельными бизнес-группами, чем в проведении политических программ, отвечающих интересам простых граждан. Он показывает, что в ряде отношений политика начала XXI в. возвращает нас к политике XIX столетия, которая определялась игрой между элитами.
Одним из проявлений постдемократических тенденций К. Крауч считает трансформацию структуры института политической партии стран Евросоюза, США и Британского содружества, которые в русской политической традиции принято обозначать термином «Запад». В качестве главного проявления этой тенденции К. Крауч рассматривает нарастающие олигархические тенденции в кадровой структуре политических западных партий. Классическая модель демократической политической партии предусматривала партийное кадровое строительство «снизу вверх»: «вождей набирают из числа активистов, тех набирают из обычных партийцев, те же входят в состав тех слоев электората, которые партия стремится представлять и, соответственно, разделяют их чаяния и интересы»1.
Основная функция промежуточных кругов состоит в том, чтобы обеспечить двухстороннее взаимодействие м ежду политическими вождями и электоратом через различные партийные уровни. То есть, демократический характер функционирования института политической партии обеспечивался пирамидальной кадровой структурой: электорат партии – активные сторонники партии из числа так называемых «пикейных жилетов» – низовые партийные активисты – аппарат партии – лидеры партии. «Концентрическая модель» (терминология К. Крауча) была оптимальной для представительства политических интересов различных социальных групп и классов (в марксистской экспликации этого понятия) в парламенте и региональных легислатурах, поскольку партийные элиты зависели, прежде всего, от своих избирателей и низовых активистов. Однако в последней четверти XX в. центр тяжести данной модели стал смещаться в сторону высшей партийной бюрократии, профессиональных политтехнологов и лиц, осуществляющих партийный фоундрайзинг (формирование финансовых фондов партийной избирательной кампании). По мнению К. Крауча, «этот процесс изменяет форму руководящего ядра по отношению к остальным кругам партии. Оно превращается в эллипс, причем начинается этот процесс, как всегда, в тот момент, когда партийные вожди и профессиональные активисты, составляющие сердцевину партии, стремятся либо вознаградить себя, попав в руководство, либо добиться политических успехов в качестве нематериального вознаграждения»2.
В качестве главного фактора и движущей силы этого явления К. Крауч рассматривает изменение социальной стратификации общества в США и странах Евросоюза. Рабочий класс в том виде, в каком его анализировал К. Маркс, перестает существовать. Промышленный капитал выводится в страны третьего мира. В государствах «золотого миллиарда» остаются лишь разросшиеся офисы управления промышленными корпорациями. Происходит так называемая «революция клерков», политическим большинством избирателей являются уже не рабочие и фермеры, а офисные служащие как государственного, так и частного сектора, широкие, во многом политически маргинализированные социальные слои «малого бизнеса». Данные социальные группы, утратившие четкую классовую самоидентификацию, уже не ориентировались на хорошо информированных активистов, выдвинутых из своей среды, и не имели политической социализации в духе определенной идеологии. Поэтому практически все партии, пережившие постдемократический эволюционный скачок, были вынуждены отойти от жестко идеологически ориентированных партийных платформ по направлению к большему плюрализму, а точнее – размытости своих предвыборных программ. Возник феномен так называемых catch-all parties – всеохватывающих партий, пытающихся работать с избирателями различных социальных групп и порой противоположных ценностных ориентиров. Классическим примером catch-all party является Демократическая партия США.
Другой частью механизма постдемокра-тических трансформаций стал так назы-ваемый моральный фактор политики. Согласно точке зрения К. Крауча, «с тех пор, как идея особого статуса государст-венной службы была объявлена нелепой и смехотворной, а высшей целью чело -веческого существования провозгласили стремление к личной наживе, политики, советники и все прочие предсказуемо стали считать продажу своего политиче ского влияния важнейшим и абсолютно легитимным аспектом своего участия в политической жизни»1.
Необходимо отметить и такое послед -ствие снижения роли партийных акти вистов в структуре политических партий, как возросшая роль финансовых спон соров избирательных кампаний. Ведь те функции работников низовых партийных избирательных штабов, которые ранее выполняли и дейно мотивированные волонтеры, теперь стало возможным обе спечить лишь посредством привлечения наемного персонала.
Здесь уместно подчеркнуть, что про -гнозы в отношении развития олигархиче ских тенденций внутрипартийной жизни отмечались задолго до К. Крауча такими теперь уже классиками политологиче ской мысли, как Г. Моска2, Р Михельс3. Однако гораздо более актуальным явля-ется вопрос о том, как сказывается поли тический тренд постдемократии на инсти туте политической партии современной Российской Федерации, тем более что политологический анализ данной про блемы на сегодняшний день отсутствует даже в российской политологической литературе. Как известно, принцип мно гопартийности утвердился в России в 1991 г. после окончательной утраты КПСС монопольного права на политическую власть. Конституцией 1993 г. принцип многопартийности был признан в каче стве одной из основ российского кон ституционного строя4. Однако анализ тенденций 20-летнего периода развития многопартийности в России позволяет нам сделать обоснованный вывод о пере ходе российского института политиче ской партии к постдемократической фазе развития, минуя собственно демократию как таковую...
Во-первых, это было обусловлено социально экономическими условиями, которые хотя и отличались от западноев ропейских, но привели к схожим резуль татам. Так, радикальные либерально -монетаристские реформы, проведенные правительством Е. Гайдара вопреки реко -мендациям ведущих западных экономи стов — лауреатов Нобелевской премии по экономике, в т.ч. В. Леонтьева, при -вели к свертыванию индустриального сектора реальной экономики на 70%. Для сравнения: экономические потери США в ходе так называемой Великой депрессии составили 29% промышлен ных мощностей. Беспрецедентная деин -дустриализация постсоветской России не могла не привести к тектоническим сдвигам в социальной стратификации общества, а значит и к изменениям в структуре электоральной базы моло дых российских политических партий. Рабочий класс России резко сократился в числе, и, соответственно, сузилась тра диционная электоральная база партий левого спектра. Сохранившийся рабочий класс сырьевых отраслей, прежде всего нефтедобывающей, по уровню доходов оказался в составе среднего класса и стал маловосприимчивым к эгалитарной идеологии. Вместе с тем сформирова лись широкие слои «новых бедных» — работников бюджетной сферы и сферы обслуживания. Большинство из них обладали высшим образованием, но при этом их доходы зачастую не превышали официально определенной государством черты бедности. Политическое созна ние этой маргинализированной группы структурно состояло из двух логически несовместимых идеологических блоков. С одной стороны, это элитарные право либеральные ценности, среди которых можно отметить веру в рыночную эконо мику, преклонение перед Западом, при нятие аксиомы о естественном неравен стве людей ввиду изначального неравенства способностей индивидов. С другой стороны, эта группа считала свое положение в системе социальной стратификации постсоветского общества «противоестественным» и «несправедливым». Собственное расположение в страте «новых бедных» они объясняли общим дефектом российской политической системы, «неправильной демократией», «неправильной рыночной экономикой», засильем бюрократии, а следовательно, поддерживали эгалитарную идею перераспределения национального дохода в свою пользу. Примерно к четвертому электоральному циклу трансформация структуры российского электората стала настолько выраженной и очевидной, что те партии, которые не учли новых тенденций, просто утратили не только статус парламентских партий, но и вообще статус зарегистрированных политических партий. Так, старейшая либеральная политическая партия «Демократический выбор России», впоследствии – «Союз правых сил», позиционировавшая себя как партию бизнеса, дважды не смогла преодолеть порог прохождения в российский парламент. Леворадикальные партии «диктатуры рабочего класса» – «Трудовая Россия» и «Сталинский блок» – просто прекратили свое существование как зарегистрированные организации. Преемница КПСС, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), формально сохраняя в своем названии слово «коммунистическая», фактически перешла на социал-демократические позиции и отошла от постулатов классического марксизма. Сегодня КПРФ активно играет не только на «левом», но и на «правом» поле, эксплуатируя лозунги российской державности и патриотизма. В ходе избирательной кампании шестого цикла осенью 2011 г. лидер КПРФ Г.А. Зюганов неоднократно озвучивал с экранов центрального телевидения идею о том, что Иисус Христос был первым коммунистом на земле, что является индикатором окончательного идейно-философского разрыва КПРФ с традицией как ортодоксального марксизма, так и ленинизма как его российской разновидности.
В свою очередь, предвыборная политическая платформа правящей пропрезидентской партии «Единая Россия» состоит из массовых эгалитарных обещаний большинству социальных групп избирателей: бюджетникам, армии, малому бизнесу, а также из завуалированных сигналов господствующим в экономике корпорациям о гарантиях неприкосновенности крупной частной собственности и недопустимости уравнительного перераспределения доходов.
Примерно из таких же разнообразных, зачастую несовместимых идейных осколков традиционных политических идеологий состоят программы и двух других российских парламентских партий – Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и «Справедливой России». Таким образом, можно утверждать, что все современные парламентские партии России, представленные в Государственной Думе, по своему типу являются catch-all parties .
Постдемократическая тенденция к олигархизации захватила все политические партии едва ли не с первых дней их существования. Ввиду трансформации традиционных социальноэкономических классов, отсутствия глубокой политической социализации электората успех на выборах зависел, в первую очередь, от качества партийной избирательной кампании, что требовало огромных и все возрастающих финансовых вложений. Российская политическая практика имела прецеденты, когда в первом туре президентских выборов электорат голосовал за кандидата от одного, а во втором – за кандидата от противоположного идеологического спектра. Поэтому все больший удельный вес в избирательных списках ведущих политических партий стали занимать долларовые мультимиллионеры и даже миллиардеры, помогающие партии в осуществлении предвыборного фоун-драйзинга. В свою очередь, остальная часть партийной элиты формировалась за счет несменяемых партийных функционеров, «партийных бояр», чье включение в избирательные списки практически не зависело ни от электо -ральных рейтингов, ни от репутации в среде рядовых партийцев. Эту тенденцию можно наблюдать даже на примере самой эгалитарной из всех парламентских фракций Государственной Думы России – КПРФ.
В свою очередь, российское государ- ство, как традиционно самый сильный актор политики, не только не предпри-няло меры по ограничению постдемо -кратических тенденций, но и катализи-ровало их течение реформой партийной системы 2001—2005 гг.1 В ходе реформы с 5 до 7% был поднят «порог» прохождения в Государственную Думу, а главное — резко ужесточены условия регистрации для новых политических партий; отменены выборы по одномандатным избиратель ным округам, что чрезвычайно упрочило позиции старых партийных бюрократий. Не случайно даже традиционно оппози-ционная властям партийная бюрократия КПРФ с одобрением высказалась о про -веденной реформе.
Таким образом, постдемократизм рос -сийской политической системы, хотя и сформировался несколько иными эво -люционными путями, привел к резуль татам, схожим западными. Вместе с тем, если западный постдемократизм как бы сосуществует с укладом классической демократии, которая его существенно ограничивает, то российский — заглушил ростки демократии в самом зародыше. Перефразируя В.И. Ленина, писавшего о России начала XX в. как о стране, где «капитализм был развит сла бо, зато империализм очень хорошо», можно оха-рактеризовать современную Российскую
Федерацию как государство, где демо кратические институты развиты слабо, зато постдемократические тенденции — очень сильно. Российская империя как бы «перепрыгнула» капиталисти ческую, рыночную стадию социально экономического развития, которая длилась с 1905 по февраль 1917 г., пред -приняв попытку «большого скачка» от феодально абсолютистских отношений к тоталитарному социализму. В полити ческой истории постсоветской России произошел похожий скачок от краткого периода собственно демократического развития 1991 — 1999 гг. к постдемокра-тическому периоду нулевых годов XXI в. Вместе с тем, так же как и в начале про шлого столетия, такие скачки несут в себе серьезный потенциал политических рисков в виде внутриэлитных конфликтов (Февральская революция 1917 г. в России) или социального взрыва (Октябрьская революция 1917 г.)
Поэтому «особый путь России» видится сегодня в инсталляции классических демократических институтов . Точно так же, как после мирового финансо вого экономического кризиса, многие авторитетные экономисты заговорили о «новом прочтении Маркса», в России необходимо новое прочтение классиков теории демократии — Т. Джефферсона, А. де Токвиля, Ш. Монтескье и др. Демократизация политической системы России придаст ей большую устойчи вость, а также создаст условия для под линной, глубинной модернизации рос сийского общества.