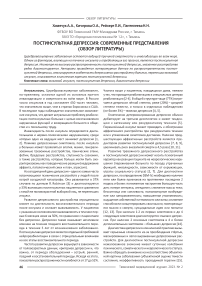Постинсультная депрессия: современные представления (обзор литературы)
Автор: Хомячук А.А., Кичерова О.А., Рейхерт Л.И., Пантелеева Н.Н.
Журнал: Тюменский медицинский журнал @tmjournal
Рубрика: Обзор литературы
Статья в выпуске: 2 (87) т.25, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цереброваскулярные заболевания остаются ведущей причиной смертности и инвалидизации во всем мире. Одним из факторов, влияющих на течение инсульта и определяющих его прогноз, является постинсультная депрессия. Несмотря на высокую распространенность постинсультной депрессии, указанное расстройство редко диагностируется. Авторами приводятся литературные данные по распространенности постинсультной депрессии, анализируются особенности депрессивных расстройств у больных, перенесших мозговой инсульт, описывается клиническая картина постинсультной депрессии.
Мозговой инсульт, постинсультная депрессия, диагностика депрессии
Короткий адрес: https://sciup.org/140303406
IDR: 140303406
Текст обзорной статьи Постинсультная депрессия: современные представления (обзор литературы)
Актуальность. Цереброваскулярные заболевания, по-прежнему, остаются одной из основных причин инвалидизации и смертности во всём мире. В России число инсультов в год составляет 450 тысяч человек, что значительно выше, чем в странах Евросоюза и США. В последние годы наблюдается значительное омоложение инсульта, что делает актуальным проблему реабилитации постинсультных больных с целью восстановления нарушенных функций и возвращения больного в общество и к посильному труду.
Инвалидность после инсульта определяется двигательными и нервно-психическими нарушениями, среди которых одно из ведущих мест занимает депрессия [1, 2]. Помимо депрессивных симптомов, после инсульта у больных может проявляться апатия, мания, генерализованные тревожные расстройства, панические атаки, фобии, бредовые расстройства, спутанность сознания, а также расстройства, которые больше могли быть охарактеризованы как поведенческие реакции (недержание аффекта, патологический смех и плач, агрессия).
На сегодняшний день депрессия - одно из самых часто встречающихся психических расстройств у людей после острой сосудистой катастрофы. Она развивается в 37% случаев по данным R. Robinson [3] и диагностируется у 33% выживших постинсультных пациентов в сравнении с такой же половозрастной выборкой лиц, не перенесших инсульт.
Развитие депрессивного расстройства отрицательно влияет на длительность восстановительного периода после инсульта и снижает выживаемость. У пациентов с указанным осложнением выживаемость в течение первых 6 месяцев ниже на 50%, по сравнению с пациентами без депрессии. Депрессия также оказывает негативное влияние на течение позднего восстановительного периода в течение 5 лет от возникновения заболевания. Постинсультная депрессия является отдельной проблемой нейрореабилитации в связи с отрицательным влиянием на все этапы восстановительного периода.
Частота развития депрессии варьирует в зависимости от половозрастных данных, критериев депрессии и, что важно, от периода обследования - острый, ранний, поздний и восстановительный периоды. Исходя из этого, показатели распространенности колеблются от 17 до 52%.
Частота выше у пациентов, находящихся дома, нежели у тех, что проходят реабилитацию в специальных центрах реабилитации [2-4]. В общей структуре чаще (77%) встречается депрессия лёгкой степени, реже (20%) - средней степени тяжести, и только в отдельных наблюдениях (не более 3%) - тяжелая депрессия [4, 5].
Генетически детерминированная депрессия обычно дебютирует на третьем десятилетии и имеет тенденцию к затяжному или рекуррентному течению [5]. Перенесённый инсульт может приводить к обострению аффективного расстройства при рекуррентном течение или к утяжелению симптомов дистимии. Наличие предшествующих аффективных расстройств является предиктором развития постинсультной депрессии [7, 8, 9], увеличивать риск внезапной смерти в 4,5 раза [10, 11].
Развитие тревожного депрессивного расстройства и постинсультной депрессии может носить психогенный характер как реакция пациента на неврологические нарушения (переживания больного по поводу утраченных функций, инвалидности, зависимости от окружающих, утраты социального статуса) [2, 7]. Для диагностики депрессии, по определению DSM-IV, необходимо наличие пяти или более признаков на протяжении последних 2 недель и более: пониженное настроение большую часть дня; потеря интереса, ангедония; снижение массы тела; бессонница или сонливость; психомоторное возбуждение или заторможенность; повышенная утомляемость; ощущение собственной ничтожности или вины; снижение способности концентрировать свои мысли; повторяющиеся мысли о смерти, суицидальные идеи или попытки [12, 13]. При наличии 1-2 из первых симптомов и до 4 следующих симптомов диагностируется «малая» депрессия. При наличии 2 основных симптомов и 4 и более дополнительных симптомов - «большая» депрессия [14].
Диагностика депрессии в клинической практике вызывает серьезные сложности из-за преобладания стёртых, маскированных и легко выраженных депрессивных расстройств. Для диагностики постинсультной депрессии немаловажное значение имеют суточные колебания психического, соматического и неврологического статуса. Важно обращать внимание на несоответствие объективной картины заболевания субъективной оценке тяжести состояния, неэффективность проводимой терапии [15].
У пациентов, которые перенесли инсульт, наблюдается снижение активности, повышенная утомляемость, замедленность в психомоторной сфере, расстройства аппетита и сна могут быть следствием как инсульта, так и депрессивного расстройства [1, 16].
К симптомам скрытой депрессии относятся: противоречивые, многочисленные и изменчивые жалобы пациента; несоответствие жалоб объективной картине заболевания и данным исследований; нарушение сна; снижение аппетита и снижение массы тела на протяжении последних недель и месяцев; выраженная усталость, не связанная с физическим или умственным напряжением; неряшливый вид пациента, скудная мимика, «потухший» взгляд; монотонная, плохо модулированная речь, не связанная с деструкцией речевых областей мозга [16].
Существует концепция сосудистой депрессии, которая развивается у пациентов после 65 лет с цереброваскулярными факторами риска, такими как артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперлипидемия, атеросклероз сонных артерий, фибрилляция предсердий, перенесших клинический инсульт или имеющих множественные «немые» лакунарные инсульты, либо поражение субкортикальных отделов белого вещества обоих полушарий (при этом у пациентов в анамнезе не наблюдались депрессивные эпизоды, то есть речь идет о депрессии с поздним началом) [17, 18]. Все это, в свою очередь, ведет к уменьшению объема подкорковых и лимбических структур мозга, функциональным нарушениям лобноподкорковых связей, отвечающих за эмоциональный фон и когнитивные функции [19].
Основной характеристикой сосудистой депрессии является одновременный дебют депрессии и доказанного (клинически и нейровизуализационно) цереброваскулярного заболевания. Пациенты пожилого возраста нередко отрицают сниженное настроение. На первый план выходят жалобы на появление беспокойства, безнадежности, беспомощности, повышенную раздражительность, замедленность движений. С возрастом по мере того, как происходит снижение умственных и физических возможностей пациентов, связанное с соматическими и/или неврологическими заболеваниями, снижением слуха и/ или зрения, происходит изменение круга его интересов.
Сосудистый характер депрессии следует предполагать при следующих факторах: дебюте эмоциональных расстройств после 50 лет; преобладании в клинической картине ангедонии, снижении мотивации и инициативы, апатии, безразличии; характерной выраженности когнитивных нарушений: замедленности мышления, трудности концентрации внимания; нехарактерной тоске, чувстве вины; тенденции к затяжному течению; умеренной фармакорезистентности [20-23].
Если жалобы имеют соматическую природу, то диагноз депрессии в таких случаях не выставляется, и данные жалобы рассматриваются с точки зрения естественной реакции на тяжёлое неврологическое поражение. Постинсультная депрессия может скрываться под очаговой неврологической симптоматикой. Например, при наличии у пациента агнозии, апраксии, афазии нарушении памяти и других когнитивных функций, диагностика постинсультной депрессии существенно затруднена [8, 16, 24, 25]. Основным методом диагностики депрессии на сегодняшний день остаётся классическое психиатрическое обследование. Существует множество различных шкал, тестов и опросников (шкалы Гамильтона, Монтгомери-Асберга, госпитальная шкала тревоги и депрессии, тесты Цунга, Бека, самооценки и др.). Однако, их применение существенно ограничено, ввиду частых расстройств высших психических функций [2, 7, 16].
Отдельным является вопрос, может ли тревожное депрессивное расстройство быть самостоятельной причиной развития инсульта при отсутствии других факторов риска. Информации на эту тему мало, что может быть связано с отсутствием больших длительных по времени исследований или наличием у этой категории людей других, не менее значимых факторов риска. В ходе отдельных исследований было показано, что до инсульта тревога может быть диагностирована у 14% пациентов; депрессия увеличивала на 45% риск развития ишемического инсульта и на 55% его летальный исход [26]. У пациентов старше 65 лет с симптомами депрессии частота развития инсульта в 2,3-2,7 раза выше, чем без неё [27].
Часто генерализованное тревожное расстройство и депрессия прогрессирует одновременно [28, 29], лишь в редких случаях генерализованное тревожное расстройство развивается раньше, чем манифестируют симптомы депрессии. Высокий процент сочетания постинсультных генерализованных тревожных расстройств и больших депрессий даёт возможность предполагать, что данные случаи - это тип тревожной депрессии, а не коморбидные расстройства [30].
Другое мнение гласит, что, несмотря на то, что часть симптомов тревоги могут быть проявлением депрессии, это независимые друг от друга расстройства. Аргумент в пользу такого мнения основан на том, что корреляты депрессии и тревоги различные. Предшествующее злоупотребление алкоголем ассоциировано с развитием тревожного расстройства. Кроме того, именно тревожное расстройство, а не депрессия связано с сильным нарушением бытового функционирования пациентов [31]. Длительность тревожных и депрессивных расстройств так же не одинакова. И наконец, депрессия ассоциирована с поражением левого полушария головного мозга, а генерализованное тревожное расстройство без депрессии - правого. Данный факт в очередной раз демонстрирует, что клинико-патологические корреляты у тревоги могут быть свои.
Имеются сведения о влиянии депрессии на длительность тревожных расстройств, но не на частоту развернутых форм генерализованных тревожных расстройств [32]. Из этого следует, что некоторые свойства генерализованных тревожных расстройств оказались неподконтрольными депрессии, что доказывает определенную их самостоятельность по отношению к депрессивным расстройствам. Клинически постинсультная депрессия проявляется симптомами малой (у 10-30% пациентов) или большой (до 25%) депрессии [33]. По мнению R. Robinson [3], для постинсультной депрессии характерно многообразие форм с различной степенью тяжести и характером проявлений. Депрессия варьируется от минимальных депрессивных расстройств до больших эпизодов депрессий. Общим для постинсультной депрессии является меньшая выраженность идей самообвинения, суицида, в некоторых случаях наблюдаются идеаторные нарушения и полностью отсутствуют симптомы меланхолии в отличие от классической депрессии. Возможно наличие различных страхов и панических атак. Также обращается внимание, что депрессия у неврологических пациентов хуже поддается лечению [34, 35].
Отдельного внимания заслуживает вопрос о связи постинсультной депрессии с нарушением когнитивных функций. Наличие предшествующих деменции когнитивных нарушений разной степени выраженности не влияет на развитие постинсультной депрессии [36, 37]. Существует несколько точек зрения, по одной из которых постинсультная депрессия не влияет на нарушение когнитивных функций [20, 38], но есть и противоположная, утверждающая, что на фоне депрессии у пожилых пациентов может развиваться псевдодеменция, так как сниженный эмоциональный фон неизбежно влияет и на когнитивные функции [39]. Уменьшение депрессивной симптоматики на фоне лечения антидепрессантами приводит в этих случаях к значительному улучшению когнитивных функций [35].
Роль наследственного фактора в развитии сосудистой депрессии не подтверждается, в виду отсутствия у родственников пациента увеличения частоты депрессивных расстройств. Проблема лечения постинсультной депрессии состоит в том, что возникающие эмоциональные нарушения расцениваются как естественная реакция организма на перенесенное состояние или не диагностируются вовсе [1, 2, 7, 16, 40].
Для современного ведения пациентов, перенесших мозговой инсульт, важную роль играет своевременная диагностика и правильно подобранное лечение эмоциональных расстройств, что в значительной степени влияет на качество жизни, а в конечном итоге и выживаемость пациентов. Кроме того, доказано, что у людей с менее выраженными эмоциональными нарушениями период реабилитации сокращается в два раза по сравнению с пациентами, имеющими постинсультную депрессию [41, 42]. Это указывает на то, что лечение должно быть комплексным.
Таким образом, учитывая негативное влияние депрессии на течение восстановительного периода у больных, перенесших инсульт, необходимо активное ее выявление у данной категории больных. У всех пациентов с сосудистыми поражениями головного мозга необходимо проводить оценку эмоционально-поведенческой сферы [43]. Следует повышать информированность пациентов не только о факторах риска инсульта, но и сопутствующих осложнениях, оказывающих влияние на процесс реабилитации, к которым относится постинсультная депрессия.
Заключение. Предупреждение и лечение депрессии может существенно улучшить процесс реабилитации и повысить качество жизни пациентов. Длительный период восстановления, инвалидизирующие последствия в значительной мере оказывают влияние на самооценку больного, на его эмоциональное состояние и приводят к невротическим, депрессивным, ипохондрическим реакциям на болезнь, к пессимистическому прогнозу лечебной и жизненной перспективы, что затрудняет принятие болезни и формирование приверженности лечению. Дальнейшие исследования различных аспектов проблемы постинсультных психических нарушений откроют новые возможности более дифференцированной помощи пациентам, перенесшим церебральный инсульт.
Список литературы Постинсультная депрессия: современные представления (обзор литературы)
- Вейн А.М. и др. Депрессия в неврологической практике. М.: МИА, 2007. 197 с.
- Gaete J.M., Bogousslavsky J. Post-stroke depression. //Exp Rev Neurother 2008; 8.Р. 75-92.
- Robinson RG. The clinical neuropsychiatry of stroke. 2th ed. //Cambridge: Cambridge University Press. 2012. р. 383-392.
- Скворцова В.И. и др. Ишемический инсульт. В кн.: Неврология, национальное руководство. /Под ред. Е. И. Гусева и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. С. 592-615.
- Ferrari A.J. et al. Global variation in the prevalence and incidence of major depressive disorder: a systematic review of the epidemiological literature. //Psychological Medicine. 2012; № 43 (03). р. 471-481.
- Катаева Н.Г., Корнетов Н. А., Левина А. Ю. Клиника и реабилитация постинсультной депрессии. //Бюллетень сибирской медицины. 2008; Прил. 1: с. 234-237.
- Kanner A. M. Depression in neurological disorders. /Lundbec Inst. 2005; 161 p.
- Боголепова А. Н. Постинсультная депрессия и основные подходы к ее терапии. //Справочник поликлинического врача. 2006. № 10. с. 64-68.
- Ramasubbu R., Tobias R., Buchan A. M. et al. Serotonin transporter gen promoter region polymorphism associated with post-stroke major depression. //J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2006. 18. С. 96-99.
- Воронова Е.И., Дубницкая Э. Б. Реактивные (психогеные) депрессии. //Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2015. 115 (2).С. 75-85.
- Савина М.А., Серпуховитина М. А. Клиника постинсультного генерализованного тревожного расстройства. //Психические расстройства в общей медицине. 2009. № 2. С. 4-9.
- Зотов П.Б. и др. Хроническая боль среди факторов суицидального риска. Суицидология. 2019; 10 (2): С. 99-115.
- Зотов П.Б. и др. Соматическая патология среди факторов суицидального риска. Сообщение II. //Суицидология. 2018; № 9 (4). С. 85-108.
- Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, FourthEdition, Text Revision: DSM-IV-TR Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc 2000.
- Домашенко М.А.и др. Постинсультная депрессия. //Фарматека. 2011. № 19. С. 15-19.
- Вознесенская Т. Г. Депрессия при цереброваскулярных заболеваниях. Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика. 2009. № 2: С. 9-13.
- Alexopoulos G.S., Meyers B. S., Young R. C. Vascular depression hypothesis. //Arch Gen Psychiatry. 1997. 54: Р. 915-22.
- Lyness J. M. The cerebrovascular model of depression in late life. //CNS Spectr. 2002. 7 (10). р. 712-715.
- Taylor W.D. et al. Vascular depression: a new subtype of depressive disorders? In: Vascular disease and affective disorders. London, UK: Martin Dunitz; 2002. р. 149-160.
- Гусев Е.И. и др. Особенности депрессивного синдрома у больных, перенесших ишемический инсульт. //Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова (Инсульт). 2001. 101 (3): с. 28-31.
- Barkercollo SL. Depression and anxiety 3 months poststroke: prevalence and correlates. //Archives of Clinical Neuropsychology. 2007; 22 (4): р.519-531.
- Ramasubbu R. Therapy for prevention of post-stroke depression. Exp opin Pharmacoter. 2011; 12 (14): 2177-2187.
- Lö kk J., Delbar А. Management of depression in elderly stroke patients. Neuropsychiatr Dis Treat 2010; 6: р. 539-549.
- Hackett M. Depression after stroke and cerebrovascular disease. In: The behavioral and cognitive neurology of stroke. Cambridge University Press; 2013; 363-374.
- Turner-Stokes L., Hassan N. Depression after stroke: a review of the evidence base to inform the development of an integrated care pathway. Part 2: Treatment alternatives. Clin Rehabil 2002; № 16 (3): 248-260.
- Bystrisky A. et al A pilot controlled trial of bupropion XL versus escitalopram in GAD. //Psychopharmacol Bull. 2008; 41 (1): р. 46-51.
- Seredenin S. B. Genetic differences on response to emotional stress and tranquilizers. //Psychopharmacol & Biol Narcol. 2003; № 1-2: р. 494-509.
- Castillo C.S., Starkstein S. E., Fedoroff J. P. et al. Generalized anxiety disorder following stroke. J Nerv Mental Dis 1993; 181: 100-106.
- Калинова И.С. и др. Частота тревожных и депрессивных расстройств среди преподавателей ВУЗов г. Тюмень //Медицинская наука и образование Урала. 2009; 10; № 2-1 (58): С. 60-61.
- Shimoda K., Robinson R. G. Effect of anxiety disorder in impairment and recovery from stroke. //J Neuropsychiat Clin Neurosci. 1998; № 10: р. 34-40.
- Robinson R. G. The clinical neuropsychiatry of stroke. Cognitive, behavioral and emotional disorders following vascular brain injury. Second edition. //Cambrige University Press. 2006; р.317-354.
- Савина М.А., Серпуховитина М. А. Клиника постинсультного генерализованного тревожного расстройства. //Психические расстройства в общей медицине. 2009. № 2: С. 4-9.
- Chemerinski E., Robinson R. G. The neuropsychiatry of stroke. //Psychosomatics. 2000. 41 (1): р. 5-14.
- Beblo T, Driessen M. No melancholia in poststroke depression? A phenomenologic comparison of primary and poststroke depression. //J. of Geriatric Psychiatry and Neurology. 2002; 15 (1): р. 44-49.
- Филатова Е.Г. и др. К вопросу о патогенезе постинсультной депрессии. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова (Инсульт). 2002; 102 (7): С. 22-27.
- Ouimet MA, Primeau F, Cole MG. Psychosocial risk factors in poststroke depression: a systematic review. Can J. Psychiat. 2001; 46 (9): р. 819-828.
- Рейхерт Л.И., Кичерова О. А., Прилепская О. А. Острые и хронические проблемы цереброваскулярной патологии. Тюмень, 2015.
- Huff W, Stecler R, Sitzer M. Poststroke depression: risk factorsand effects f the course of the stroke. Nervenarzt. 2003; 74 (2): р. 104-114.
- Левада О.А., Сливко Э. И. Постинсультная депрессия. //Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова (Инсульт). 2006; 106 (16): С. 73-79.
- Hackett M.L. et al. Interventions for Treating Depression After Stroke. Stroke. 2009. 40: e 487-8.
- Paolucci S. et al. Post-stroke depression, antidepressant treatment and rehabilitation results. Acase-controlstudy. //Cerebrovasc Dis. 2001. 12 (3).р. 264-271.
- Скорикова В.Г. и др. Предикторы эффективности тромболитической терапии при ишемическом инсульте. //Медицинская наука и образование Урала. 2014. № 2 (78). с. 69-71.
- Кичерова О.А., Рейхерт Л. И., Прилепская О. А. Пропедевтика нервных болезней. Учебник для студентов медицинских ВУЗов. Тюмень, 2016