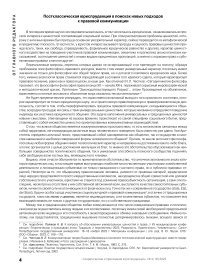Постклассическая юриспруденция в поисках новых подходов к правовой коммуникации
Автор: Разуваев Н. В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: От главного редактора
Статья в выпуске: 4 (18), 2023 года.
Бесплатный доступ
ID: 14129154 Короткий адрес: https://sciup.org/14129154
Текст ред. заметки Постклассическая юриспруденция в поисках новых подходов к правовой коммуникации
В последнее время научно-исследовательская мысль, в том числе мысль юридическая, ознаменовалась всплеском интереса к ценностной составляющей социальной жизни. При этом рассмотрение проблемы ценностей, которому с античных времен был присущ в основном умозрительный характер, сейчас переводится из метафизической в предметную плоскость. В частности, у юристов интерес вызывают природа и сущность правовых ценностей (прежде всего, таких, как свобода, справедливость, формальное юридическое равенство и другие), характер ценностного воздействия на поведение участников правовой коммуникации, семантика и прагматика аксиологических высказываний, соотношение ценностей с иными видами юридических пропозиций, а именно с нормами права и субъективными правами и многое другое1.
Перечисленные вопросы, перечень которых далеко не исчерпывающий и не претендует на полноту, образуя проблемное поле философско-правового дискурса, вместе с тем имеют универсальный характер, поскольку имеют значение не только для философии или общей теории права, но и для всего комплекса юридических наук. Более того, именно аксиология права становится определяющей в условиях того идейного сдвига, который характеризует правовое познание, равно как и право в целом, в наши дни. Как отмечает И. Л. Честнов: «Сегодня многие философы признают, что философия и философия права в конце XX — начале XXI в. переживает серьезный мировоззренческий и методологический кризис. Претензии “Законодательствующего Разума”… эпохи Просвещения на объективное, единственно истинное описание и объяснение мира оказались несостоятельными»2.
Не будет преувеличением утверждать, что единственно возможный выход из того кризисного состояния, которое характеризует не только юридическую науку, но и практическую правотворческую и правоприменительную деятельность, состоит в том, чтобы переформатировать процессы правовой коммуникации, складывающиеся в обществе, возродив присущую им связь с теми универсальными ценностями, которые неизменно определяют поведение индивида как участника юридического общения. Эта задача наполнения универсальных и традиционных ценностей новыми смыслами, отвечающими на вызовы времени, проистекает из самой специфики социального бытия, представляющего собой множество ценностно ориентированных коммуникативных взаимодействий.
О том, что всякое общество является коммуникативным пространством, то есть множеством связанных между собой нарративов, легитимирующих различные виды человеческого поведения, было известно уже давно. Уже Аристотель определял античный полис, представлявший собой одновременно как общество, так и государство в качестве наивысшей и наиболее совершенной формы человеческого общения3. Причем, по мысли античного философа, поскольку любая форма общения имеет телеологический характер и направлена на достижение какого-либо блага, а полис организуется с целью достижения наилучших из благ, то именно это обстоятельство обусловливает как наибольшее совершенство политического общения, так и уникальную способность полисного сообщества подчинять себе свободную волю частных лиц, являющихся его членами.
Видимо, этим отчасти объясняется то примечательное обстоятельство, что античная экономика не знала категории юридических лиц, в настоящее время выступающих наиболее многочисленными участниками хозяйственной деятельности и полноценными субъектами не только гражданского (частного) права, но и публично-правовых отраслей. Несмотря на то, что обыденному правосознанию человека, далекого от правовых материй, юридическое лицо нередко представляется просто имущественным комплексом, находящимся в общей совместной или долевой собственности его участников, юристами не ставится под сомнение правосубъектность организаций, а сами эти последние, несмотря на отсутствие у них собственной автономной воли, выступают в качестве самостоятельных субъектов, ничем по своей сути не отличающихся от физических лиц. Точно так же и современное государство (state, État, der Staat), будучи особого рода участником социокультурной и правовой коммуникации4, в отличие от традиционных государств, таких как полис и цивитас , является индивидуальным, а не коллективным субъектом, что позволяет ему взаимодействовать не только с другими государствами, но и с собственными гражданами.
Между тем в традиционном обществе любая коммуникация (в том числе коммуникация правовая и политическая) всегда осуществлялась между людьми и их коллективами, поскольку имела своей необходимой предпосылкой автономную волю индивида и его способность к знакопорождению и обмену знаковыми сообщениями. Именно поэтому, как представляется, традиционное мышление полностью детерминировалось знаками, всецело завися от них. Это, в числе прочего, предполагало, что коллектив, как источник культурных смыслов и творец нарративов, имел в традиционном обществе гораздо большую власть над своими членами, чем современное государство, чьи абстрактность и деперсонифицированность сама по себе ограничивает легитимирующие возможности политических нарративов и связанной с ними государственной власти в обществе эпохи модерна5.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Важно отметить, что сугубо предметный характер традиционного мышления не способствовал приписыванию свойств акторов таким собирательным образованиям, как коллектив, социум и т. п. Поэтому в культурном (мета-нарративном) пространстве последний присутствовал в качестве индивида, способного участвовать в знаковой коммуникации наравне со своими членами. Это достигалось путем совершения достаточно сложных мыслительных операций, наглядным примером которых можно считать известную доктрину собирательных тел, развивавшуюся в различных контекстах древними стоиками, римскими юристами и представителями раннехристианской патристи-ки6. Нельзя не заметить сугубо метафизические основания данной концепции, в той или иной мере определявшей античные и средневековые нарративы. Не случайно крушение этих оснований в ходе Великой научной революции XVII в. имело далеко идущие последствия в виде утраты традицией (и характерными для нее нарративами) легитимирующих свойств и появления модернистской концепции человеческой личности, ставшей универсальной моделью для репрезентации не только человека, но и иных субъектов (в том числе государства и юридических лиц)7.
Таким образом, любые культурно значимые изменения в репрезентации и саморепрезентации человеческой личности, выступающих основанием для конституирования всех прочих феноменов как внешнего, так и внутреннего мира, влекут за собой трансформацию культурного пространства, неизбежно сопряженного с деконструкцией нарративов и, как следствие, с кризисом сложившихся форм знаковой коммуникации. Под знаком этого кризиса прошел век премодерна, чьи поведенческие и институциональные эксцессы, на наш взгляд, напрямую были обусловлены утратой великими нарративами ранее присущей им легитимирующей функции8. Зеркальным отражением данной ситуации в условиях смены культурных парадигм, происходящей в последние десятилетия, стало и текущее состояние постмодерна, приведшее к деконструкции не только отдельных нарративов, но и метанарративного механизма легитимации в целом.
Указанное обстоятельство подметил в свое время Ж.-Ф. Лиотар, считавший характерной чертой постмодерна «недоверие в отношении метарассказов… С выходом из употребления метанарративных механизмов легитимации связан, в частности, кризис метафизической философии, а также кризис зависящей от нее университетской институции. Нарративная функция теряет свои функторы: великого героя, великие опасности, великую цель. Она распыляется в облака языковых нарративных, а также денотативных, прескриптивных, дескриптивных и т. п. частиц, каждая из которых несет в себе прагматическую валентность sui generis »9. Первыми жертвами этой тотальной деконструкции, еще к середине XIX столетия, пали великие философские системы, чей объяснительный потенциал, некогда сопоставлявшийся с «непостижимой эффективностью» математики и классической механики, был радикально про-блематизирован А. Шопенгауэром, Ф. Ницше и другими младшими современниками.
Отмеченное выше постмодернистское разрушение метанарративов, начавшееся с крушения философских систем, в итоге привело к деконструкции всего социокультурного пространства Нового времени, включавшего в себя, наряду с философией, наукой, художественной литературой, искусством, также право, государство и иные знаковые системы, легитимировавшие поведение личности, в том числе в горизонтах повседневного жизненного мира. Оборотной стороной рассматриваемых процессов становится деконструкция субъекта культурного творчества, последовательными вехами которой следует считать слова о смерти Бога, смерти автора и, наконец, самого человека, возвещенной пророчеством Мишеля Фуко о том, что когда-нибудь (весьма, как оказалось, скоро) «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»10.
Представляется, что наиболее значимой и особенно тревожной тенденцией эпохи постмодерна следует считать дегуманизацию социокультурного дискурса, смысловым ядром которого выступала человеческая личность. С тех пор как на заре Нового времени произошло открытие человека, освободившее его от диктата традиции, именно человеческая личность являлась смысловым ядром, высшей ценностью и основным источником тех смыслов, на основе которых конструировались феномены культурного пространства. Именно эта самоценность личности придавала реальности как устойчивость, так и способность к трансформациям, обусловленную стабильной и одновременно многогранной репрезентацией личности в различных контекстах и социальных окружениях. В настоящее время происходит последовательная фрагментация личности, перестающей восприниматься в качестве автономного субъекта общения и превращающейся во множество слабо связанных между собой акторов, смысл которых
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
может кардинально различаться, в зависимости от тех языковых игр (экономических, политических, юридических, морально-нравственных, религиозных, художественных и т. п.), в которых индивид принимает участие и правилам которых он себя без остатка подчиняет11.
Своеобразным результатом рассмотренных процессов становится утрата определенности самой знаковой коммуникацией, включая коммуникацию правовую, симптомом чему служит засилие цифровых технологий. Цифра не только является новым знаково-символическим средством коммуникации и инструментом конструирования культурного пространства, но и превращается в своего рода «подпорку», при помощи которой лишившиеся равновесия дискурсивные практики пытаются сохранить устойчивость. Вторым следствием сказанного выступает ризоматиза-ция культурной реальности, особенно наглядно проявляющаяся в языковом плане, где «нет ни языка (langue) в себе, ни универсальной языковой деятельности (langage), а есть состязание диалектов, жаргонов, сленгов и специализированных языков. Нет идеального говорящего-слушателя, так же как нет и однородного языкового сообщества»12.
Наконец, третьим и наиболее примечательным результатом является тотальная фрагментация саморепре-зентации человеческой личности, в психиатрическом плане вполне сопоставимая с шизофренией. Растворяясь во множестве взаимно противоречащих друг другу контекстов, субъект коммуникации тщетно стремится удержать ускользающую реальность, что служит первопричиной множества различных эксцессов, выступающих проявлениями экзистенциального и социального кризиса постмодернистской эпохи. Пока приходится констатировать непреодолимость этого кризиса имеющимися в наличии средствами, включая средства знаково-символические. Представляется, однако, что единственный выход из сложившейся ситуации состоит в восстановлении целостности человеческой личности на основе нового (или возрожденного) метанарратива, который, в свою очередь, обеспечит когерентность культурного пространства в новой исторической ситуации.
О том, что рассмотренные тенденции находятся в центре внимания юридической науки, свидетельствует и настоящий номер журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция». При всем многообразии и разнона-правленности исследований во всех публикациях конкретные проблемы рассматриваются сквозь призму общего теоретико-методологического подхода, предопределяющего их ценность. В статьях, размещенных на страницах журнала, рассматриваются, в частности, аналогия права как форма судебного прецедента (Ю. Г. Изотов), вопросы дефиниции международных санкций, а также их легальность и легитимность с точки зрения международного права (Е. С. Родионова, Я. С. Бутакова), природа права на благоприятную окружающую среду (А. К. Бахилина), категория предприятия как объекта гражданских прав (Ю. В. Байгушева) и многое другое. Хочется выразить уверенность в том, что всестороннее исследование данных вопросов будет способствовать не только выработке рекомендаций для юристов-практиков, но и формированию новой парадигмы правового мышления, способствующей выходу юридической науки из затянувшегося теоретико-методологического кризиса.
Николай Викторович Разуваев, главный редактор