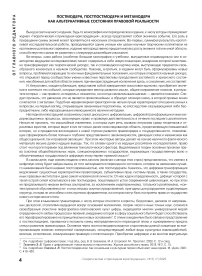Постмодерн, постпостмодерн и метамодерн как альтернативные состояния правовой реальности
Автор: Разуваев Н.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: От главного редактора
Статья в выпуске: 3 (17), 2023 года.
Бесплатный доступ
ID: 14128499 Короткий адрес: https://sciup.org/14128499
Текст ред. заметки Постмодерн, постпостмодерн и метамодерн как альтернативные состояния правовой реальности
Выход в свет научного издания, будь то монография или периодическое издание, к числу которых принадлежит журнал «Теоретическая и прикладная юриспруденция», всегда представляет собой значимое событие. Его роль в приращении суммы знаний может проявляться в нескольких отношениях. Во-первых, суммируя результаты кропотливой исследовательской работы, проводившейся одним ученым или целым научным творческим коллективом на протяжении длительного времени, издание непосредственно придает импульс росту знания в той или иной области, способствуя тем самым ее развитию и стимулируя дальнейшие изыскания.
Во-вторых, сама работа (особенно большие монографии и учебники, выпущенные индивидуально или в соавторстве ведущими исследователями) может содержать в себе новую концепцию, внедрение которой качественно трансформирует как теоретический дискурс, так и сложившуюся картину мира, выступающую предметом своеобразного консенсуса в научном сообществе. Наконец, в-третьих, в издании могут быть сформулированы новые вопросы, проблематизирующие те или иные фундаментальные положения, на которые опирается научный дискурс, что открывает перед сообществом ученых известные перспективы преодоления застойного и кризисного состояния, неизбежные для любой области знания, причем юриспруденция исключения здесь, к сожалению, не составляет.
И, безусловно, каждая публикация, представляя собой завершенное смысловое единство, приобретает значение в контексте тех событий, которые определяют вектор развития мысли, общее направление поисков, в результате которых — как правило, исподволь и незаметно, но иногда семимильными шагами — движется познание. Следует признать, что движение это не является прямолинейным, а образует сложную схему, в которой прямые линии сочетаются с зигзагами. Подобная неравномерная траектория как нельзя лучше характеризует отношение ученых к вопросам, на первый взгляд, открывающим заманчивые перспективы, но впоследствии оказывающимся либо беспредметными, либо неразрешимыми имеющимися в наличии методами.
Наглядной иллюстрацией сказанному служат дискуссии о цифровизации, цифровой трансформации и иных модернизационных процессах, затронувших право и правовую действительность в течение последнего десятилетия. Нельзя не признать, что масштабные изменения, о которых идет речь, вызвали энтузиазм среди теоретиков и отраслевых юристов, которые видят в них не только ранее неисследованную область, представляющую повышенный интерес, но и предвестие восхождения к новой ступени развития правопорядка и государственности, позволяющее сформировать более полные и глубокие представления о закономерностях, движущих силах и механизмах как общесоциальной, так и правовой эволюции1. При этом некоторые авторы делают на основе наличного фактического материала весьма далеко идущие выводы. Так, по словам одного из ведущих российских исследователей, право стоит «на пороге перемен под влиянием технологического фактора. Выделяемые в теории основные признаки права (система общеобязательных норм, санкционированных государством, выражающих государственную волю и обеспечиваемых государством) в цифровую эпоху теряют прежний смысл»2.
В самом деле, еще совсем недавно очень многим (включая и автора этих строк) представлялось, что именно в цифровую эпоху будет найден выход из того затянувшегося переходного состояния, которое за неимением лучшего наименования было названо постсовременностью, или постмодерном. Казалось, что цифровая трансформация видоизменит сущностные характеристики правопорядка, субъективных прав, системы права, а также государства, иных правовых институтов и даже самой человеческой личности. От нее ждали определенности, дефицит которой с такой острой силой испытывался в век постмодерна, пошатнувшего устои современной цивилизации, но при этом не предложившего никаких внятных альтернатив, за исключением индетерминизма, тотального релятивизма, «контекстуальной обусловленности» и иных весьма смутных представлений, пригодных для разрушения существующих структур, но едва ли способных стать прочным фундаментом, на котором могут быть построены право и государство нового исторического типа.
При этом в мышлении гуманитариев, к числу которых относятся и юристы, безусловно, далеком от напряженных дискуссий, столетиями ведущихся вокруг оснований математики, теории чисел и иных точных наук, сложился своеобразный (поистине пифагорейско-платоновский) культ цифры, видевшейся многим универсальной мерой определенности любых процессов и явлений, внедрение которой в сферу социального бытия будет способствовать его переформатированию на принципиально новых основаниях3. С этими ожиданиями было связано представление о постпостмодерне, призванного положить конец неопределенности переходной эпохи и одновременно придать стимул развитию правопорядка. Основная черта постпостмодерна видится сторонникам данной концепции во всепроникающем влиянии электронной коммуникации, опосредствующей любые виды культурных взаимодействий, включая, естественно, коммуникацию правовую и политическую. Приобретая цифровую и во многом виртуальную форму, любой текст становится самопорождаемым и способным к ничем не ограниченному воспроизводству в интертекстуальной электронной среде.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Теперь для создания текста уже не требуется фигура автора, творческими усилиями которого текст приобретает свое бытие и независимость от других, подобных ему, знаковых образований. В эпоху постпостмодерна, полагают исследователи, сам текст как линейная последовательность знаков, главным образом цифр, оказывается способным к порождению, своего рода «почкованию» других текстов. Это позволяет устранить автора, с присущей ему индивидуальностью, окончательно элиминировав из цифровой реальности элемент субъективного произвола (а точнее сказать — творческой свободы), неизбежно сопровождающий любые проявления человеческой личности. Нетрудно заметить в подобном цифровом самовоспроизведении правовых текстов отголоски весьма старой неоплатоновской идеи эманации уровней бытия, в котором Единое порождает Монаду, та распадается на Диаду, из которой, в свою очередь, проистекает множество феноменов непосредственно явленной феноменальной реальности4.
В самом деле, различные приметы зарождающегося правового порядка, казалось бы, подтверждают правоту этих выводов. Здесь, прежде всего, следует назвать сферу гражданского имущественного оборота, в котором цифровая трансформация отношений проложила себе дорогу, по-видимому, раньше и активнее, чем в любых иных сферах. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить популярные смарт-контракты, заключаемые в электронной форме. Каждый такой контракт является существующей на виртуальной платформе типовой моделью некоего договорного отношения, автоматически создающего для вступающих в соответствующее отношение участников собственный договор с конкретными условиями, применимыми к данным фактическим обстоятельствам.
Тем самым участникам предлагается «договор, существующий в форме программного кода, имплементированного на платформе Blockchain, который обеспечивает автономность и самоисполнимость условий такого договора до наступления заранее определенных в нем обстоятельств»5. Число подобных контрактов постоянно растет по мере расширения сферы их применения. Впервые появившись в качестве финансовых обязательств по поводу криптовалюты и иных электронных платежных средств, смарт-контракты со временем оказались удобными средствами для оформления отношений купли-продажи, имущественного найма, подрядных отношений, оказания услуг и др.
В результате трансформируются и сами упомянутые договоры: в частности, наряду с традиционными видами договоров, появляются новые виды, сочетающие в себе элементы различных договорных типов, что делает актуальной проблему правового регулирования смешанных договоров. Речь идет, к примеру, о дилерских договорах, квалифицируемых либо в качестве смешанного договора, к которому применяются правила о договорах поставки и договорах оказания услуг, либо в качестве агентского договора, имеющего преимущественно рамочный характер. Причем, в зависимости от специфики конкретного обязательства, цифровой код создает различные формы, максимально соответствующие существу договорного отношения, что позволяет сторонам избежать, при его заключении, ошибок, касающихся природы и сущности обязательства, создающих предпосылки для признания самой сделки недействительной6.
Итак, мы видим, что в электронных смарт-контрактах свобода сторон в определении характера, вида, сущности и условий договора оказывается сведена к минимуму, что дает основание вести речь о «конце» традиционного договорного права, всегда являвшегося неприступным бастионом свободы, автономии воли и имущественной самостоятельности субъектов, не затрагиваемым никакими политико-юридическими новациями, порожденными ситуациями модерна и постмодерна. Да, собственно, и сама субъектность как таковая все более ставится под сомнение в условиях постпостмодерна, вытесняясь большими массивами цифровых данных (по сути, теми же текстами)7, о чем со всей очевидностью свидетельствуют попытки поставить на повестку дня вопрос о правосубъектности искусственного интеллекта, нейросетей и иных носителей больших массивов информации.
Тем самым в условиях постпостмодерна переживает радикальную трансформацию система релевантных образов, используемых для описания социальной и правовой реальности. Рискнем предположить, что на смену образу ризомы (луковицы)8, пользовавшемуся особой популярностью в постмодернистской литературе, приходит образ геммулы (почки), отображающий сущностные трансформации, которые переживает текст, переходя от многослой-ности, маскирующей пустоту, к зачаточности, предвещающей или имитирующей самопорождение9. В результате
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
уникальную роль, которая испокон веков принадлежала авторской индивидуальности, все настойчивее стал присваивать себе сам текст, как бы во исполнение знаменитого пророчества о «смерти автора» в постсовременном мире10.
Таким образом, ценою за обретение определенности, утраченной в эпоху постмодерна, для постпостмодерна становится тотальное обезличение реальности, в том числе реальности правовой. Последняя, лишившись активного действующего субъекта, являвшегося актором юридических смыслов, становится игрушкой в руках столь же обезличенных политических, социальных, экономических и прочих сил, чьей распорядительной власти правопорядок оказывается не в состоянии противостоять. Указанное обстоятельство очень верно подметил И. Л. Честнов, по словам которого, «право в эпоху постпостмодерна — это результат борьбы социальных групп (точнее — их представителей), за право официальной номинации некоторых социальных явлений и процессов как юридически значимых. Такой результат зависит не только от эффективности дискурсивных практик по умению сформировать и навязать населению убедительную картину правовой реальности, но и от расстановки политических сил, культуры социума и множества других социокультурных факторов»11.
Естественно, что рассмотренные тенденции едва ли могут способствовать стабилизации правопорядка, сущностным ядром которого, несмотря ни на что, являются человеческая личность и конституируемые ею смыслы, прежде всего, такие как свобода, справедливость, формальное юридическое равенство и т. п. Отнюдь не случайно уже в достаточно скором времени оказалось, что надежды, возлагаемые на цифровизацию и иные приметы века постпостмодерна, в полной мере проявили свою иллюзорность. В самом деле, в период пандемии в цифровой коммуникации виделись универсальное средство перехода человечества на новую, более высокую ступень эволюции, расширяющую горизонты общения, в том числе общения правового. Однако последующие события, приведшие к разрыву сложившихся глобальных контактов, лишний раз подтвердили подозрение, что наметившиеся еще в эпоху модерна конфликты и противоречия оказались не устраненными даже в новой цифровой реальности. Вот почему наиболее проницательные исследователи (такие как Пьер Шлаг) склонны сейчас достаточно скептично оценивать иллюзии современников, видя в них проявления «спамовой юриспруденции», создающей новые проблемы буквально из воздуха, делая глобальные выводы, которые, при всей своей глобальности, не менее легковесны, чем этот последний12.
Результатом попыток осмысления ситуации (как в праве, так и в культуре в целом), сложившейся в самые последние годы, стал термин «метамодернизм», предложенный на рубеже минувшего десятилетия Р. ван ден Аккером и его коллегами, видевшими в метамодерне своего рода синтез модернистских и постмодернистских тенденций, возникший в качестве реакции на тотальную неопределенность постмодернизма, так и не заполнившуюся конкретным содержанием в век цифровых технологий13. В итоге, уверовав в наступление «постистории», человечество внезапно обнаружило себя застрявшим в тотальном модерне, чьи приметы (в том числе противоборство великих держав, переделы сфер влияния, вооруженные конфликты и т. п.), как оказалось, не могут быть вытеснены в виртуальную плоскость.
Вместе с тем, будучи своего рода инкарнацией архетипических признаков долгого модерна, метамодернизм выражает и внутреннюю культурную логику постмодернизма, выступая в качестве высшей и, возможно, последней стадии его развития. Более того, имеются достаточные основания предположить, что в перспективе так называемой большой исторической длительности или, используя терминологию Ф. Броделя, longue durée14, постмодерн, постпостмодерн и метамодерн вполне могут рассматриваться в качестве характерных доказательств того, что современность все еще не завершилась, а «конец истории», вопреки упованиям футурологов, так и не наступил. Следуя данной логике, некоторые авторы считают целесообразным возврат к модернистским истокам постсовременности, выступая с апологией метамодерна, в котором они видят универсальный ответ на все существующие вызовы и единственную перспективу противодействия постмодернистскому скепсису15. Так, по словам В. Д. Зорькина, лишь на пути «метамодернистского подхода к осмыслению права, позволяющего аккумулировать в себе эвристический потенциал самых разных типов правопонимания, возможно преодоление кризиса права и правовой демократии, который уже очевиден для любого неангажированного наблюдателя»16. Нельзя, впрочем, не заметить в этом энтузиазме по поводу метамодерна элемента известной наивности, как и в любых попытках использовать теоретическую модель, с неизбежно присущей последней неопределенностью, в качестве рецепта для решения практических задач.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Основная особенность правопорядка, права и юридической науки в наши дни состоит в том, что они переживают одновременно несколько состояний, имеющих альтернативный характер. Можно говорить о том, что они являются постмодернистскими, поскольку происходит крушение тех базовых ценностей глобализма, универсализма и европоцентризма, которые определяли идейный облик модерна. Одновременно виртуализация и цифровая трансформация правовой реальности позволяют характеризовать ее в терминологии постпостмодерна. Наконец, парадоксальное и внутренне противоречивое сочетание модернистских и постмодернистских тенденций в общечеловеческом масштабе дает возможность вести речь о наступлении эпохи метамодерна в праве.
Иными словами, постмодерн, постпостмодерн и метамодерн являются альтернативными состояниями, в равной мере характеризующими правовую реальность на нынешнем этапе ее эволюции17. Возможно, осознание указанного обстоятельства научным сообществом произведет обескураживающий эффект на тех его представителей, кто слишком увлекается построением масштабных теорий и созданием футуристических прогнозов, но при этом послужит плодотворным стимулом для дальнейшего исследовательского поиска.
Николай Викторович Разуваев, главный редактор